
 |
|
Между прочим Барский замечает о своих текстах: «Почти все они связаны с визуальностью и требуют комментариев или хотя бы подтекстовых переводов для зрителя, не знающего русского языка, так как их визуальностъ неотрывна от их семантики».
А с семантики ли все начинается? Как это у Сатуновского: «Были бы рифмы, а мысли найдутся». Говоря о конкретной поэзии, следовало бы, наверное, сказать: были бы связи, а знаки найдутся (точнее, по Сатуновскому, «это одно и то же»). Можно ли так писать, чтобы это не только в комментариях не нуждалось, но и к переводу не обязывало? Во всяком случае, к специальной языковой подготовке, истолкованию.
Как видно, да, можно, но только там, где мы не с языком, не со знаком имеем дело, а с самой поэтической речью, где сам интонационно-ритмический строй, динамика взаимного расположения слов могут удивить и спровоцировать узнавание, причем не только в локально-языковом контексте. Вероятно, это область более речевой, чем изобразительной, поэзии (коль скоро речь идет вообще о работе со словом), находящаяся на границе каких бы то ни было языков. «Когда пространственность образов нашей речи проявляется в графике текста функционально, работая на восприятие, — тогда, очевидно, и можно говорить о поэзии для глаза... Визуальность текста понимаю прежде всего как выраженную пространственность речи» (В. Некрасов, «Объяснительная записка». «А-Я». 1985, № 6. Статья написана в 1982 году, а в 1983-м помещена в Московский Архив Неофициального Искусства).
Собственно же визуальная поэзия ближе к рисунку, фотографии, коллажу. Слово сливается с изобразительностью. Неудивительно, что на Западе к началу 80-х визуальная поэзия как жанр просто мимикрировала, рассеялась в сильно уже вербализованном изобразительном искусстве, не исключая рекламу, комиксы и т.д.
Агитпроп, в противоположность западной массовой культуре, был направлен не на то, чтобы отыскивать разнообразные пути, как удивить, привлечь внимание зрителя, а, значит, и подхватить каждую интересную визуальную идею из смежных областей и самому что-то подобное изобрести: на совсем другие цели — своего рода массовую афазию, например... Лозунг — коан, не требующий решения, и чем он недосягаемей и выше, тем он нагляднее. Не потому ли визуальная поэзия до сих пор сохраняет у нас свою суверенность, что при всей своей отзывчивости на искусство западное, здесь, тем не менее, она неминуемо вынуждена была оставаться «частным занятием», так как подсознательно стремилась возобновить связь между тем, на что глядишь, и тем, что в этом прочитываешь, естественную человеческую связь, вывести слово из-под угрозы тотального поглощения буквой, дав ему новое визуально-знаковое выражение? Совершенно ясно, что такого рода деятельности просто не в чем было раствориться.
Вербализация изобразительного искусства, пока оно тоже еще оставалось «частным занятием» (Булатов, Кабаков, Монастырский, Донской, Рошаль, Скерсис, и особенно в 80-е годы «Мухоморы», Захаров, Альберт, «Медгерменевтика»), у нас также носила характер «разлитературивания» текста. Попадая в изобразительно-художественную среду, текст приобретал особое лирическое наполнение, становился более личным. Самый яркий пример: красный транспарант с белой надписью «Коммунизм победит» и такая же подпись помельче внизу «Комар и Меламид». Нельзя не вспомнить и словесно-пространственных построений в живописи Булатова («Живу — вижу», «Севина синева» и т.д.). Еще пример: серия чисто текстовых работ Альберта с черными надписями маслом по холстам скромного формата, сообщающая о личных состояниях художника («В моей работе наступил кризис, я растерян, смущен и не знаю, что делать дальше», — одна из них), являющаяся, кроме всего сказанного, реакцией на практику западных концептуалистов выставлять записи своих идей в качестве изобразительных объектов.
Возьмем один из самых характерных текстов Барского — «Нирвана». Слово редуцируется до своей графики, до четырехлучевого восьмиугольника в центре работы, своей формой напоминающей мандалу, оно замирает в нем, буквально в него перевоплощаясь, причем перевоплощение это мыслится как в ту, так и в другую сторону: фигура составлена из слов, динамически расположенных в виде древней индийской свастики. В результате мы имеем нечто подобное иероглифу* (может быть, даже из древних «изобразительных» алфавитов, состоявших еще не из абстрагированных знаков, а из конкретных примитивных рисунков-смыслов): составной знак с плотным, сгущенным семантическим наполнением, всей своей графикой выражающий смыслы, восходящие к его главной идее. Текст буквально «говорит» графикой. Но чем больше он говорит, тем слово немеет в нем все больше и больше. Именно этот момент наглядно канонизирован в «Простейших» Альчук, где графический орнамент просто «съедает» возможность звукового прочтения; от него же отталкивается Констриктор в «Чернухе», хотя уже и в обратную сторону, то есть в пользу звука, реабилитируя его в последних трех «ш-ш-ш...».
Конкретная и визуальная поэзия могут быть подобны иероглифу, но это все же и не иероглифика в в собственном смысле слова. Ведь мы тут имеем дело с авангардным искусством, а восточная каллиграфия традиционна. Например, японская конкретная поэзия. По-видимому, она вообще не совсем то, что мы вкладываем в это понятие. Часто это элементарные манипуляции с иероглифами или просто иероглифы в определенном художественном сочетании, зримо изображающие свое значение. Почти все эти работы как бы не имеют масштаба, что обычно и для классической танка, и, скажем, для «живописи цветов и птиц».
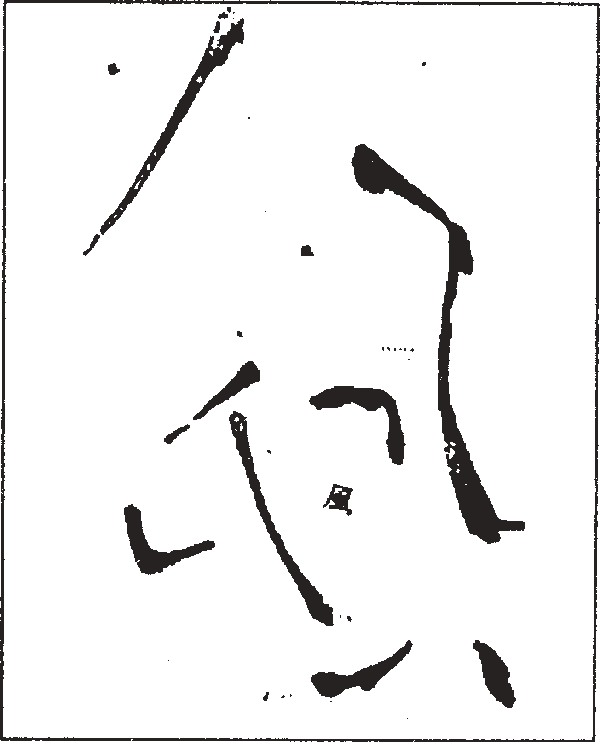
Первое, что бросается в глаза и отличает их от существенно более близкой нам, предположим, немецкой конкретной поэзии (наглядная разница — два «ветра», японский и немецкий) —
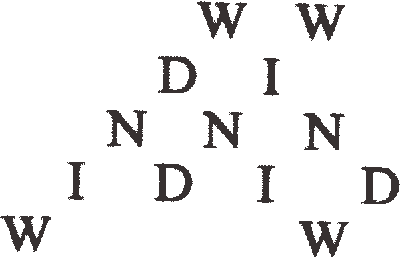
это их очевидная, само собой разумеющаяся красота (так и хочется сказать «красивость»). Японским конкретистам и не нужна, как будто, никакая выразительность, у них и так уже все выражено изначально в иероглифах. А у Гомрингера в 40—50-е годы еще и так было:

(Так ли трудно, и не зная немецкого, догадаться, что значит «schweigen», в котором оставлено пустое окно? «Молчание», конечно. В 1969 г. «Молчание» было опубликовано в «Лит. газете.»)
Казалось бы, тоже предельно скупо, чего уж проще, но все же вот того самого ощущения японской, не найденной даже, но именно врожденной красоты нет. Остается совсем другое впечатление: проверки на состоятельность, честность, выживаемость (замечательно, что при всей своей графике, текст подразумевает и возможность чтения вслух). И для нас это к лучшему, потому что с этого белого окна, выделенного плотным набором одного и того же «молчания», и начался в свое время новый круг: разговор об искусстве, выявивший самую жизненную функцию языка — речевую. А вот уже речь как таковая, в своем чистом, элементарном виде, где в каждом слове раскрываются три функции: оно следует за... оно само по себе... и оно предшествует...
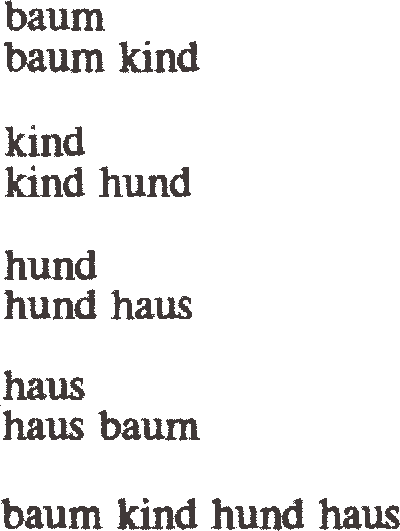
Сам Гомрингер в лекциях по искусству показывал слайды своих визуальных текстов параллельно со слайдами работ Макса Билля, также тяготевшего к минималистским формам. Они были почти идентичны. Ряд простейших элементов речи, а рядом — последовательность лаконичных визуальных форм. Что это был за способ говорения? Это была, видимо, послевоенная недоверчивость к любому виду идеологизированной художественности и вообще очень радикальное хозяйничанье — пересмотр того, что еще осталось в искусстве тех лет недискредитированным. Так, кстати, сложилась немецкая группа «47» (по году возникновения).
У нас тот же процесс и на тех же основаниях начался в конце 50-х, так что к началу 60-х в Лианозово уже писали то, что потом и здесь стали называть конкретной поэзией просто по аналогии с тем, как это называлось на Западе.
«В общем, Сатуновский, Холин, Сапгир, мы с Соковниным про группу «47» в свое время не знали. «Группа конкрет» — чистый вымысел. Были бы группы, их бы назвать «57», «59». До конкретности и до кому чего надо доходили больше порознь и никак не в подражание немцам, а в свой момент по схожим причинам (этот приоритет каждый бы уступил, думаю).
Взять повтор — не немцы же его выдумали... Но многократный повтор неизбежно выводит в визуальность: его приходится решать на листе так или иначе. А патенты кто же оспаривает.
Действительно, ведь такого конфуза — и речевого конфуза — никакие футуристы не запомнят. «Кричать и разговаривать» нечем было не то что «улице», а хоть бы и мне... Не сотворить — творцы вон чего натворили — открыть, понять, что на самом деле. Открыть, отвалить — остался там еще кто живой, хоть из междометий. Где она, поэзия»**.
Большую роль, конечно, сыграло и тесное сотрудничество художников с поэтами, не прекращавшееся все 30 лет истории нашего неофициального искусства; часто нестрогость жанровых границ, их размываемость и вообще открытость разных видов искусства друг другу (у нас просто никогда социальных мотивов не было для такой четкой дифференциации «по клеткам» в искусстве, как на Западе). Очень показательно тут не раз слышанное замечание поэта о какой-нибудь особо понравившейся работе художника: «Вот бы так же сделать, только в словах...» И наоборот. А многие, кстати, совмещали в себе и то, и другое (Е. Л. Кропивницкий, Сидур, Гробман). В 1987 году появился при «Клубе современного искусства» журнал «Парадигма» (тир. 30 экз.), а в 1988 году, как его продолжение при «Клубе авангардистов», — журнал «МДП» (тир. 3 экз.), редактированный Альчук, где публиковались работы поэтов-визуалистов. Нельзя не упомянуть и ейский «Транспонанс» Сигея и Никоновой, одних из самых первых авторов этого направления. Открытие визуальных возможностей поэзии шло поначалу в условиях изоляции и нехватки информации о том, что уже наработано заграницей. Потом оказалось, что тут не только аналогий, но и чистых совпадений достаточно. В том-то и дело, что в этой области, особенно на микроуровне языка, совпадения вообще неизбежны. Для примера взять хоть «Простейшие» Альчук и «Весну» Исии Ютака или «Атомную молитву» Керна и некоторые стихограммы Пригова.
В чистой визуалистике, которую исповедует Сигей, — другое дело. Там каждая вещь такова, что как бы и в патенте не нуждается. Это визуальная продукция, как гравюра, скажем, или офорт, и здесь дело как раз не в том, что могло бы совпасть или повториться, а в том, что принципиально отрицает типичность: в нарочитой спонтанности нюанса, в каком-то диком сдвиге, идущем от противоборства упорядоченности, в индивидуализации своего, прежде всего, языка. Это и не конкретная поэзия и не просто графика. Это уж, скорей, работа художника, так сказать, «свое клеймо».
Существует синдром терминологии или переназывания. Когда сторож становится «контролером охраны», а дерево «единицей леса». Поэтому мне меньше всего хотелось бы здесь отстаивать девственность наименований. Поэзия «конкретная» или «визуальная» — это, в конце концов, «смотря как посмотреть» (даже в пределах одного автора). Хотелось лишь указать на разницу двух тенденций в искусстве, на этом участке проявляющуюся, может быть, как нигде остро. Одна — живущая своим отношением к иероглифу как слову, немеющему в красоте цельного графического знака (это направление, по-видимому, имеет своим пределом ритуализацию жанра — что-то аналогичное китайским чисто визуальным палиндромам), другая — стремящаяся ко все более и более полноценной выразительности речи, то есть к слову, не только организующему графическое пространство, но и звучащему.
Культуру можно уничтожить, причем даже не своими собственными руками, а руками тех, кто рядом, друзей по стратегии, но ее исходную точку, начало, к которому она все время возвращается и из которого проистекает, ни отменить, ни перелицевать нельзя. Сэй Сёнагон сообщает, что любовник, вернувшийся домой рано утром после встречи с возлюбленной, должен был немедленно послать ей письмо, «пока не скатились капли росы с утреннего вьюнка». Она же должна была сразу ответить ему. Содержание писем представляло собой их взаимные впечатления от минувшей встречи. Спрашивается, а почему, собственно, нельзя было сказать друг другу то же самое перед расставанием? Слово-иероглиф мало произнести, его необходимо изобразить. Наша же культура, как и вообще европейские, с ее фонетическим алфавитом, где за каждой буквой закреплен определенный звук все-таки, а не значение, — культура осмысленно-действенного, произнесенного слова. Это именно слово звучащее, а не слово означающее только, слово-личность, не осуществленное, на мой взгляд, без того, кто его произносит. Не свидетельствует ли идея молчания как монашеского подвига отречения от мира в восточной христианской традиции, и особенно у афонских исихастов, как раз о том, что вся та культура, которую они оставляли в миру, связывалась ими в первую очередь со словом звучащим? Отсюда и необходимость, отрекаясь от всего мирского, «умирая для мира», — затвориться в молчании. Буддийский отшельник, вероятно, просто не осознавал бы его как «подвиг». Поэтому, если говорить о визуалистике, тяготеющей к знаку, то, пожалуй, самым интересным здесь является то, как автор осознает это культурное начало и как на него реагирует.
В этой связи хочется отметить тексты Цвеля, занимающего, как мне кажется, совершенно особое место среди поэтов-визуалистов. Они разделяются на фонограмму и текст как ее проекцию на лист бумаги, причем записанный хоть и на печатной машинке, но на индивидуальном, внятном только автору, языке, так что запись, внешне совпадающая с визуальной вещью, по сути своей является партитурой, акцентирующей и направляющей интонацию звучащего голоса.
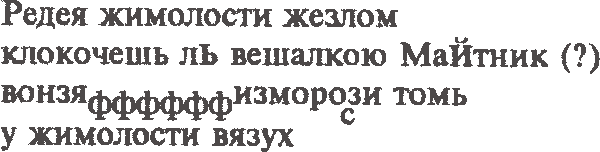
Глеб Цвель, из сборника «Не
бу
дюн»
Случай Цвеля — характерный симптом, и тем интересен, что знаковость у него всецело работает на произнесение, не теряя при этом своего визуального достоинства, как своего рода нотный стан для личного авторского прочтения (свои сочинения Цвель почти поет). Интересно, что склонность к чисто сонорному стиху, начиная еще с 60-х, испытывал Холин (достаточно вспомнить его «ава а вава» или конец поэмы, посвященной Овсею Дризу, «Песня без слов»). Постоянные вкрапления такого рода встречаются и во всех его стихах начиная с 1991 года.
Как бы то ни было, но обе указанные склонности создают и сейчас в искусстве напряжение, по-видимому, достаточное для того, чтобы развиваться дальше.
________________________
* Адаптация восточных идей в современном искусстве — тема для особого разговора. Из самых ярких примеров осознанного обращения к ним можно назвать деятельность Монастырского, «Семь ударов по воде» и самодельную книгу «Чистый цзен» Алексеева, постоянный мотив Срединной Империи у Лейдермана, «Цвета Конфуция» Ефимовой, «медитативный» альбом «Кавказ» Тишкова и т.д.
** Некрасов В. «Объяснительная записка» (там же).