
 |
|
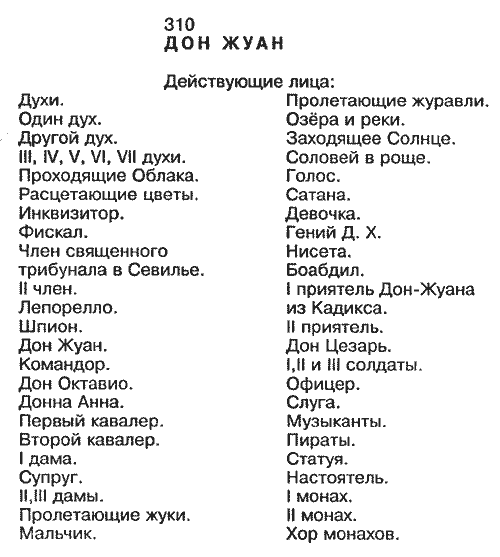
В неоконченной Хармсом пьесе «Дон Жуан» (1932 г.) прежде всего обращает на себя внимание список действующих лиц. Он представляет собой точный перечень действующих лиц из одноимённой драматической поэмы А. К. Толстого, выписанный в две колонки в той последовательности, в которой они появляются по ходу действия, если листать её от первой до последней страницы1. Но в этой планомерной поступательности есть 2 нарушения. Первое – нестыковка некоторых её частей, и второе – введение четырёх новых для Толстого действующих лиц, двое из которых, Пролетающие жуки и Мальчик, завершают первую колонку рукописи Хармса, и ещё двое, Девочка и Гений Д. Х., находятся в середине второй колонки. Оба эти нарушения находят простое объяснение, если предположить, что автор выписывал действующих лиц не так, как это представлено в полном собрании его сочинений (Спб, 1997), а вслед за шестью лицами в левой колонке он написал шесть – в правой, выделив тем самым Пролог «Дон Жуана» Толстого, а затем продолжил те же колонки – вначале левую, а потом правую. Таким образом, по всей логике вещей под первыми шестью строками списка и слева, и справа следовало бы поставить пробел хотя бы во избежание путаницы с этой вещью Хармса. Тогда за Расцветающими цветами действительно последуют Пролетающие журавли, последним персонажем Пролога будет сатана, а первая часть начнётся с появления инквизитора. Дальше всё пойдёт, как у Толстого. Такая разбивка списка соединит вместе и обе пары отсутствующих у Толстого героев: Пролетающие жуки, Мальчик, Девочка и Гений Д. Х. В списке Хармса будут следовать друг за другом и представлять собой некую недошедшую до нас сцену, задуманную Хармсом и, вероятно, записанную им, как врезка в общую последовательность толстовских действующих лиц. Важно отметить, что задумывалась именно врезка, монтаж. Хармсовский текст в том виде, в котором он до нас дошёл, свидетельствует о намерении автора неукоснительно воспроизводить у себя последовательность появления толстовских героев.
В какой же сцене «Дон Жуана» Толстого предполагалась эта врезка? Установить это можно очень точно: между появлением 3-ей дамы и Нисеты в конце 1-ой части – всего одна страница текста, вся посвящённая «наглой» выходке Дон Жуана с пением серенады под балконом «потерянной женщины»:
Третья дама
Как он глядит на эти окна. Кто
Живёт над тем балконом?
Третий кавалер
Как, над тем?
Не смею вам сказать, сеньора, там...
Живёт одна...одна...не смею, право!
Третья дама
Смотрите, он остановился. Он
Гитару строит. Кто же там живёт?
Третий кавалер
Глазам своим не верю! Там живёт
Потерянная женщина одна
По имени Нисета. Целый город
Нисету знает, но никто б не смел
На улице ей поклониться. Право,
Я ничего не понимаю. Как?
Он сбросил плащ, он шляпу загибает,
Его лицо освещено луной,
Как будто хочет он, чтоб вся Севилья
Его узнать могла. О, это слишком!
Возможно ль! Он поёт!
Третья дама
Какая наглость!
Эта сцена ночного гуляния у фонтана готовит кульминацию пьесы: за серенадой (Чайковский впоследствии писал для неё музыку) сразу же следует убийство Дон Жуаном Командора, отца Донны Анны.
Почему же именно эта сцена так привлекла внимание Даниила Хармса? Во-первых, и по духу, и по жанру она – вполне хармсовская. Достаточно вспомнить его «Выходит Мария, отвесив поклон...», в списках названную «Серенада», или такое, например, вызывание возлюбленной, как «Мария! // Вы слышите меня, Мария? // Не пожалейте ваших ног, // Сойдите вниз, откройте двери. // Я весь, Мария, изнемог» («Архитектор», 1933), такие признания, как «Ах если б мне предмету страсти // пересказать свою тоску // и разорвав себя на части // отдать бы ей себя всего и по куску» («Страсть», 1933), или «Луиза! // Ты моё пристанище» (1930-1933). Вспомним также любовь Хармса к розыгрышам, которые могли со стороны также казаться «наглыми», и к рискованным действиям у всех на глазах, таким как приглашение на вечер с карниза Дома печати. Стихи Хармса, которые в общем контексте современной ему поэзии не могли восприниматься иначе, как «наглые», вызывающие, были написаны им за год-полтора до «Дон Жуана» (если учесть ещё год, проведённый в заключении и в ссылке, то – непосредственно перед ним). Первое из них, откровенно эротическое, адресовано Эстер Русаковой, с которой в 1931-ом же году они расстались. Второе – «Ты шьёшь. Но это ерунда...», по-видимому, адресовано ей же.
Исследователями творчества Хармса не раз отмечалось индивидуально-символическое значение слова «окно» в его произведениях. Знаковость этого образа связана у него с образом всё той же женщины, а схематическое его изображение, подчас сопровождающее стихи, содержит в себе латинские буквы, составляющие её имя2.
В репликах «Дон Жуана» Толстого слово «окно» встречается всего 1 раз, и, как можно видеть, – как раз в первой же строчке интересующей нас сцены у фонтана. По всей вероятности, в толстовской сцене вызывании Нисеты на балкон, в этой, так сказать, «вызывающей» серенаде Хармс находил для себя что-то личное, причём связанное с только что произошедшим разводом с женой.
Можно предположить, что Хармс узнал себя в «вызывающем» Дон Жуане Толстого, увидел в этой сцене «свою» сцену. И вот интересно, что она, по-видимому, обернулась вызовом для него самого, как автора.
Собственно, точка узнавания запечатлена им же самим в последнем из «новых» действующих лиц – Гении Д. Х.
Хармс, конечно, с его чутьём к многозначности слова, любивший закрепить в тексте за одним словом сразу несколько значений (кстати, возможность двух вариантов прочтения своей подписи русскими и латинскими буквами допускается им уже в 1922 году в стихотворении «В июле как-то в лето наше...»), не мог не подразумевать тут возможности двух значений слова «гений»: гений, как необыкновенно одарённый человек, и гений, как дух-посланник, дух-покровитель. Именно это обстоятельство и подталкивает нас к предположению, что и вторая составляющая имени тоже двузначна: Даниил Хармс и Дон Хуан.
В чём же был вызов «Дон Жуана» Толстого Хармсу, и как он на него попытался ответить?
Гениев в значении «духи» во всём собрании сочинений Толстого днём с огнём не сыскать. Разве что «тень деда из чулана» в «Глафира спотыкнулась...», стихотворении, присланном Прутковым «с того света», или «тень прабабушки из чулана» (опять-таки! – «Фантазия»). Есть также кошмарные видения Годунова в драматической трилогии – но все они не имеют значения посредников, гениев. Зато именно такие гении встречаются, и не раз, у любимого Хармсом Гёте (например, «маленькие гении и духи» в «Пробуждении Эпименида»), того самого Иоганна Вольфганга Гёте, который гладил по головке маленького Алексея Константиновича, посадив его к себе на колени3, во время путешествия Толстого со своим дядей А. Перовским по Европе, и чей «Фауст» оказал едва ли не главное влияние на «Дон Жуан» Толстого4. Ведь его основа – это, собственно, даже не Меримэ, не Гофман, не «Каменный гость» Пушкина, а переработка одной из сюжетных ветвей «Фауста» – истории Фауста и Гретхен. Сама композиция: пролог на небесах, периодическая, так сказать, «инспекция» духов по ходу действия, где вместо Мефистофеля резонёрствует сатана, пение злополучной песни под гитару, приводящее к непреднамеренному убийству, гибель возлюбленной, пророчествующей перед смертью, спасение героя в конце, очень созвучный Гёте пейзажно-природный фон драмы Толстого – всё это говорит о том, что структурой «Дон Жуана» для Толстого был конспект 1-ой части «Фауста».
Теперь посмотрим на «Дон Жуана» Хармса. До нас дошёл только Пролог и самое начало 1-ой части (перед допросом Лепорелло). Но и сравнение двух прологов красноречиво. Редуцируя структуру драмы Толстого до чисто формального принципа последовательности появления тех же самых действующих лиц, Хармс пытался «реабилитировать» в ней философские идеи «Фауста», и именно те, которые были близки ему, обсуждались в кругу чинарей. Это разговор двух духов (Фирмапелиуса и Бусталбалиуса. Обратим внимание вообще на внешнюю близость многих имён у Хармса именам героев Гёте: Асхалафус, Мандандана и др. из «Торжества Чувствительности», например) об истинности глупости и иллюзорности ума, перекликающийся, скажем, с таким обращением Фауста к Гретхен: «О друг мой, верь, что мудрость вся людская – // нередко спесь лишь пошлая, пустая!» (сцена 12. В саду), и развивающий одну из основных тем чинарских бесед, в одной из которых Введенский как-то раз сказал, что им проведена «поэтическая критика разума». О той же иллюзорности ума – и реплики Проходящих облаков, Расцветающих цветов, Заходящего солнца, Озёр и рек. Все они по очереди своими словами как бы ставят под сомнение подлинность предыдущего сообщения: нельзя верить тому, что само постоянно меняется (облака проходят, цветы – только ещё расцветающие, то есть ещё не успели расцвести, солнце заходит).
Другая «чинарская» тема «Фауста», с которой и начинается Пролог «Дон Жуана» Хармса, – радость. «Фауст» начинается монологом на сходную тему: «...глупец я из глупцов! // ...Пусть я разумней всех глупцов // ...зато я радостей не знаю // напрасно истины ищу...» (часть 1, сцена 1). Философские замечания Липавского о радости можно встретить, например, в его «Разговорах». Среди сочинений Хармса отметим «Радость» и «Слава радости, пришедшей в мой дом». Глупость и радость – где-то даже сходящиеся для чинарей понятия...
Кроме того у Хармса в Прологе дважды возникает тема смены возрастов, протекания человеческой жизни, времени. Второй раз – это реплика Озёр и рек, где жизненный путь сравнивается с рекой, входящей в берега, потом впадающей в море и отражающей звёзды, – образ, напоминающий по своему складу восточную философию. Этот мотив практически отсутствует у Толстого (если не считать эпилога с благой монастырской кончиной, отброшенный им в издании 1867 г.), его больше интересует не жизненный путь героя, а «биография любви» Дон Жуана и Донны Анны. Зато основное действие «Фауста» – это и есть, собственно, свободное прохождение им своего жизненного пути. Вообще, время, даже не как приметы исторической ситуации, а как протекание, последовательность событий или их отсутствие – также предмет особого интереса в кругу чинарей. Например, всё действие рассказа Хармса «О том как меня посетили вестники» укладывается ровно в одно мгновение, и правильно идущие часы показывают одно и то же – без четверти четыре, как в его начале, так и в конце. Введенского, по его же собственному признанию, интересовали только три вещи: время, смерть и Бог. Практически все философские работы Липавского и многие Друскина содержат в себе размышления о времени.
Даже Голос, завершающий Пролог Хармса, – гораздо более гётевский, чем толстовский. Достаточно вспомнить хотя бы заклинания Фаустом пуделя в 3-ей сцене 1-ой части. Для Толстого это было бы вероятно разве что в пародийной версии.
Итак, по всей видимости, Хармс замыслил «противотолстовского» «Дон Жуана». Он воспользовался структурой драмы для нанизывания на неё и восстановления того, что ему было близко в Гёте, и чем Толстой сумел пренебречь, точно так же, как и сам Толстой в своё время из конспекта 1-ой части «Фауста» произвёл своего «Дон Жуана». Действие равно противодействию, как в физике. Причём зеркальность контрприёма у Хармса представляется даже несколько пародийной относительно приёма Толстого. Он пытается вернуть буквально на те же подмостки тем же исполнителям тех же действующих лиц то, что только что у них отобрали, вернуть, как бы говоря: «А чем Гёте-то плох? Верните Гёте!» Представьте, например, что суфлёру случайно попадается в руки хармсовский «Дон Жуан», а не толстовский, и он по тому же списку персонажей вдруг начинает читать не весеннюю хвалу всей природы Богу, а
Проходящие облака: А потому и разговор небывших
мы будем называть небывшим.
Расцветающие цветы А размышленье проходящих
мы называем проходящим.
Заходящее солнце: Что не успело расцвести
то не успело мудрости приобрести.
Задуманная Хармсом «противопьеса» представляет собой хорошо организованный и рассчитанный на узнавание зрителем и читателем ответ Толстому, о чём свидетельствует, кстати, и тщательность проработки её автографа.
О том, как Толстой писал своего «Дон Жуана», чем он насыщал сюжетную структуру «Фауста» и что хотел в ней выявить – особый разговор. Но самое интересное тут, по-моему, в том, что, приняв толстовскую сцену у фонтана за «свою», встретившись с его Дон Хуаном в «Гении Д. Х.», Хармс на этом перекрёстке узнал себя даже не в самом Дон Жуане, а, собственно, в творческом методе автора, Алексея Константиновича Толстого. Недаром Козьма Прутков, обладатель «сабли», занимал второе место в его дневниковом «перечне главнейших книг». Дело в том, что А. К. Толстой, как никто, пожалуй, из его современников, умел воспринимать искусство, как единую диалогическую структуру. Это видно по его собственным произведениям, неизменно втянутым и втягивающим читателя в диалог образцов, уже в искусстве имеющихся, почти демонстративно, напоказ, предполагающим узнавание и участие. Эти образцы были для него своеобразным языком5. Вероятно, именно это и почувствовал Хармс в упомянутой нами сцене, потому и ответил на вызов участием. «Дон Жуан» Хармса, по-моему, – замечательный пример правильного прочтения А. К. Толстого.