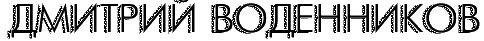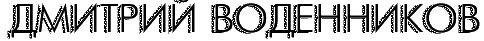Сентябрь 2002 - сентябрь 2003
* * *
Я был – в ослепительных джинсах,
в густой ярко-синей рубашке,
было мне – тридцать три года,
и сердце моё –
разрывалось – от счастья.
1.
…Мама! и как так случилось,
что я – написавший свои знаменитые книги:
о смерти, о страхе, о прахе (о пыли), о комплексе жертвы –
умудрился
всё ж таки стать
таким совершенно здоровым,
таким невозможно счастливым
и таким – абсолютно – бессмертным?
А вот так и случилось! – что, глядя однажды
в ваши милые-милые лица,
с плохо скрываемой злобой, отчаяньем и раздраженьем,
я вдруг вспомнил,
как нынешний мой арт-директор,
а раньше – флористка,
тоже, видимо, глядя – в не менее! – милые лица своих постоянных клиентов,
вдруг сказала,
сбивая с колен непокорную, грубую землю:
Извините меня,
но японского сада – НЕ БУДЕТ.
2.
Вот и вы извините меня, ибо мне – не хватило любви,
этой грубой пахучей любви,
а вот вам, как ни странно, – хватило!
…о, как долго, как долго –
в сиреневых сумерках – тридцать четвёртой весны
голубая лисица – в моих переулках – бродила.
А теперь всё иначе – я сегодня проснулся от счастья,
с сильно бьющимся сердцем – и глядя в апрельский рассвет, в загустевшую зелень,
вдруг засмеялся,
потому что опять-таки вспомнил:
и своё прошлогоднее пьяное зимнее буйство,
и себя самого – в окруженье каких-то подонков,
и мужские, надёжные руки подоспевшей охраны,
но главное –
голос,
ЖИВОЙ ОСЛЕПИТЕЛЬНЫЙ голос,
с таким неподдельным участьем спросивший меня:
«Ну, что, Дима, уже не можете – без скандала?»
Ну, почему же – МОГУ.
3.
Ибо – как сказала бы Дебби Джилински,
(ещё один – буйнопомешанный ангел
из любимого мной голливудского фильма),
превращаясь у всех на глазах – в кучку пепла и в ворох кредиток:
«Я НИКОМУ НЕ ХОТЕЛА ВРЕДА,
МНЕ – НЕ НРАВИЛОСЬ! –
ДЕЛАТЬ КОМУ-ЛИБО БОЛЬНО.
НО ВРЕМЕНАМИ – ЛЮДИ
ПРОСТО ОТКАЗЫВАЛИСЬ СЛУШАТЬ, ЧТО ИМ ГОВОРЯТ,
И ТОГДА – Я ВЫНУЖДЕНА БЫЛА
ПРИМЕНЯТЬ УБЕЖДЕНЬЕ, УГРОЗЫ …И – СЛЕЗОТОЧИВЫЕ СРЕДСТВА»
4.
Так что ты не сердись, – а приди на меня поглазеть
через год или два (лучше десять!) – и то, что осталось,
будет так же плясать для тебя,
будет так же стесняться и петь…
Что ж поделать, ну нравится мне – эта первая мелкая взвесь,
этот быстрый апрельский пожар,
эта нежно-салатная жалость!
5.
…И за это за всё –
за твою несказанную щедрость,
за твою беспощадную трезвость,
за минутную слабость твою –
будет, будет тебе
твой обещанный праздник:
этот буйно помешанный прах
легендарная пыль
черемуха счастья
бесстыдно раскрытая жизнь
ВЕСЬ ЭТОТ ГРУБЫЙ АПРЕЛЬСКИЙ
БЕССМЕРТНЫЙ ПИАР
вечный воденников
* * *
Мужает голос и грубеет тело,
но всё по-прежнему во мне – свежо и звонко.
Я подниму себя – привычно, между делом,
легко и убеждённо, как ребёнка.
А ранней осенью – жизнь зацветёт, как школа,
начнёт букетами и ранцами кидаться,
но зрелость с юностью – как школьник и дошкольник,
всё меж собой никак не сговорятся.
Но – солнце – правду – выскажет в упор
и также в зеркале, как зелень, отразится,
когда из ванны выйдешь в коридор
ты – с мокрой головою, как лисица.
…Чем ближе осень – ярче подоконник,
чем дальше школа – тем ещё ужасней
и я сижу в углу, как второгодник,
и свет стоит столбом – как старшеклассник.
Мне нравится, что жизнь со мной – груба
и так насмешлива, подробна и невместна:
я подниму своим привычным жестом
легко и убежденно – прядь со лба.
Ведь сколько раз уже – в очередном аду –
я прижимал к лицу свои мужские руки
и полагал, что я иду – к концу,
а шёл, как правило, к какой-то новой муке.
Ну так простимся же – по-царски, без обид,
здесь и сейчас, откинув одеяло, –
нам только жизнь и зрелость – предстоит,
как раньше смерть и детство предстояло.
ШИПОВНИК
И мальчиком, и дядечкой – нельзя:
кусаю губы, потому что знаю,
что – вот она! – не первая весна
и не последняя… а так, очередная…
Я – сбрасываю кожу, как змея,
я – как крапива, прожигаю платье,
но то, что щас шипит в твоих объятьях,
кричит и жжется – разве это я?
Нет, в том шиповнике, что цвёл до издыханья,
до черноты, до угля – у забора
я до сих пор стою как тот невзрачный мальчик
за пять минут – до счастья и позора.
Ну что ж поделать, если не совпавший
ни там, ни здесь – со мной, по крайней мере –
ты пах моей щекой, моей мужской рубашкой
ещё до всех моих стихотворений.
– За всё про всё одна лишь просьба есть:
за то, что мы не были и не будем –
люби меня таким, каким я есть,
таким-каким-я-нет – меня другие любят.
…Я не надеюсь, ни с одним из вас
ни там, ни здесь совпасть, – но в это лето
мне кажется, что кто-то любит нас,
имперских, взрослых, солнечных, раздетых.
Из душного цветочного огня
он нас прижмёт к себе, а мы – ему ответим…
Ещё я знаю, что на целом свете,
уже лет десять, больше нет тебя.
* * *
Только что ж мне так тошно
в моём ослепительном сне –
по колено в песке, на участке из солнца и пыли –
знать, что всех схоронили, устроили в этой земле
(и тебя, в том числе), а меня почему-то забыли.
…ты мне приснилась постаревшей,
какой-то жёлтой, неуверенной в себе,
и всё, что есть во мне мужского, содрогнулось
от жалости и нелюбви к тебе.
Однако, всё это – значенья не имело,
по крайней мере,
по сравненью с тем – как ты,
с каким-то детским вызовом сидела –
на самом краешке куриной слепоты…
Но я не выдержал – свою мужскую муку,
и вот тогда – из солнечного сна –
ты – старой девочкой, безвременной старухой,
ты так внимательно взглянула – на меня.
Но все сама отлично понимая,
ты поперхнулась собственной судьбой –
и засмеялась – вечно молодая –
над нашей пошлостью и трусостью мужской.
…Мой сон прошёл, но я не просыпался,
и снилось мне, что я плыву во сне,
как и положено мужчине, содрогаясь
от отвращенья – к самому себе.
Надеюсь, верю, знаю – непременно
настанет день, когда при свете дня,
с таким же немощным, бесстыжим сожаленьем
один из вас – посмотрит на меня,
и станет мне так ясно и понятно,
что всё, что есть, – не стыд, не пыль, не прах,
а только – розовые голубые пятна
в моих смеющихся – еще живых – глазах.
Назад