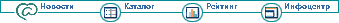Нина САДУР
ЧТО ОСТАНЕТСЯ
"Души в вас нет, господа: и не выходит
литературы" - В. В. Розанов, "Опавшие листья" (1-й
короб), - таким мне и видится постсоветский период литературы и -
ведения.
Но три большие удачи, на мой взгляд, все же есть.
Анатолий Гаврилов, чью единственную подборку рассказов читала
в сборнике, изданном Олегом Дарком, "Видимость нас", 91-й год.
К сожалению, больше публикаций этого замечательного прозаика
я не встречала.
Асар Эппель - "Травяная улица", издательство "Третья
волна", 94-й год.
Творчество Юрия Мамлеева, в частности его роман "Шатуны",
выходящий на днях в издательстве "Терра".
Вначале, прочитав "Травяную улицу" А. Эппеля, я
удивилась, что литературные обозреватели не узрели ее. Сдается, что и на
Букера ее не выдвинут. Серьезную книгу осмыслить трудно: необходим
профессионализм для этого.
"Травяная улица" - это из детства. В моем - улицы
были травяные, в одуванчиках и битых стеклах. Эппель обладает редчайшим даром
(такое же умение у Саши Соколова в его "Школе для дураков") - он
п о м н и т детство. В детстве мир иной, он богат.
Вырастая, человек стирает этот мир, часто безвозвратно, иногда ностальгический
укол в сердце, как память об утерянном рае. Эппель помнит в мельчайших
подробностях, тема лета - через весь сборник рассказов; Эппель -
мастер детали, он останавливает мгновение и длит его, его герои копошатся в
нескончаемом лете окраины, протирают стеклышки, клеят бумажки, строгают
палочки - живут полной, насыщенной жизнью. Не веда о бедах своих, не
понимая войны, не зная, что они плохо кушают, - не понимая, что они
обделены, потому что они - "с травяной улицы". Рассказ "Темной теплой
ночью" - о мальчике, который, шаля, преследует ночью пожилую женщину. Он
кажется себе Томом Сойером. Но он и
п о н и м а е т страх своей жертвы. Потом,
через многие годы, будет клясть и ненавидеть себя - несмываемый позор,
ярость и ненависть к самому себе, но сейчас происходит вот что: зачарованный
ночной мир, живущий сам по себе (и страшно далеки светящиеся окна домишек,
хотя знакомы все кусты, все тропинки к ним), хотя, на ощупь и закрыв глаза, он
может найти любую канавку, ложбинку, нет - это ночной мир, и человек в
нем одинок безмерно. От этого дурная, горячечная игра - догнать, загнать
другого такого же, оказавшегося случайно в этом ночном мире. Слияние жертвы и
преследователя в одно бредущее по летней, равнодушной ночи первозданное
существо (ради чего и совершается преследование, ведь ночью человек особенно
никому не нужен, и мальчик-преследователь более одинок, чем жертва, так как
она вслух выкрикивает свой страх, а он не смеет даже голоса подать, чтоб не
выдать себя, так таится, что его будто и нет совсем нигде, вот-вот не
будет...), это их общее потрясение, эта игра не кончается и днем. Когда мир
трезв, груб, понятен и плосок. Узнав друг друга днем, они продолжили гонку.
Ребенку понравилась его власть над чужой жизнью, а пожилая женщина не смеет
пресечь эту власть.
Или поразительный рассказ "Вы у меня второй". Дотошно,
мучительно, хирургически писатель расчленяет сущность младшего лейтенанта
Василия. Мы вольны узнать в нем хоть того же Смердякова. Но у Достоевского у
самого потрясение от Смердякова-лакея, а у Эппеля не-потрясение, от этого еще
невыносимей "мрадший рейтенант Васирий". Писатель показывает его как бы
глазами "травяной улицы", а та не умеет высоко морализировать. Она неразвитая,
маленькая, нищая, у ней и душа нищая. И этот козявочка-лакей-холуй мучаем
королевой-прачкой. И у лакея этого: "А оно (детство) там вообще никак не
складывалось, будучи зря потраченным временем, когда бьют тебя по золотушным
ушам и больше ничего". У него никогда ничего не было. И как насмешка, как
нескончаемое издевательство над холуем-лейтенантом дана ему в подруги жена
элитарного военного, вхожего в Кремль... Как и положено королеве, та не видит,
что новый-то ее друг - холуй. Потому что не подозревает вообще об их
существовании. Потому и позорится на всю улицу, работая прачкой, а могла ведь
"шикарные пояски плести из киноленты". Кроме этих двоих, в рассказе есть еще
два персонажа - мальчик и девочка. Они приходят в гости почти каждый
день. Потому что война и они хотят кушать. Потом Вася их изгоняет, обличив в
корысти, еще большей, чем его собственная. "Девочка быстро идет впереди и
вполоборота что-то говорит мальчику, а он то и дело как бы останавливается, то
ли собираясь нагнуться за мокрой бутылкой, то ли намереваясь вернуться, но не
поспевает за ней, и - Боже мой! - какие они обношенные, какие
растерянные! Поглядите на них, запомните их, ведь они уходят. Из рассказа
уходят, и никогда уже, никогда больше не вернутся..." Дети таинственны у Асара
Эппеля. Так же, как они таинственны в жизни (см. рассказ "Худо тут"). Ребенок,
всякий раз забывающий чернильницу, он помнит, что завтра диктант и никто не
даст "макать в свою чернильницу", он п о м н и т, что
его будут мучить, что учительница замучает его опять, но он забывает
чернильницу, и писатель поймал этот миг жизни детской души: мальчик в самом
деле забыл чернильницу (все время помня про диктант) некой оцепенелостью
детской души - против суетного мира взрослых, очарованностью своим миром;
главное то, что он сейчас вот сидит в сумерках и смотрит на свет коптилки, и
нельзя шевельнуться, нельз поменять это на суетливый рывок к чернильнице,
отдать этот миг другой, плохой, грубой и неправильной жизни. Взрослые, что
мучают детей, непостижимо, даже как-то загадочно тупы. То ли они завидуют
богатству детского мира, то ли в самом деле свою какую-то правду знают,
убогую, но правильную правду нищих, заселяющих "травяную улицу"? А если они
нищие, то откуда этот: "Ой, вам бы кусочек печенки!" Это из рассказа "Два
Товита". Где во время военного голода местный полудурачок стал слепнуть, и вся
улица, искренне жалея, восклицала: "Ой, вам бы кусочек печенки!" Так, словно у
них-то у всех есть этот кусок и, мало того, стоит немножко подождать,
потерпеть - и у него будет... Вообще эти жители "травяных улиц" довольно
беспечные, даже легкомысленные какие-то. Они, раз они бедные люди (ведь и
живут в бедном месте), не понимают, как дети малые, законов настоящей жизни
сильных и умных, они даже не понимают, что такое война, которая самолетики над
ними пускает... Они, собственно, все и есть тот мальчик, который всегда
забывает чернильницу. Они - нелюбимые дети человечества. Я их всех знаю.
Их пожелтевшие фото - в моем семейном альбоме. Спасибо Асару Эппелю за
его горькую и нежную книгу.
Роман Юрия Мамлеева "Шатуны" не похож ни на что когда-либо
бывшее в литературе. По таинственности, непостижимой взятости из ниоткуда этот
писатель сравним разве что со Свифтом... Тот тоже сам-первый такое нам
показал... До сих пор слухи ходят, что Свифт - космический
пришелец.
Мне кажется, что феномен Мамлеева долгие годы будет мучить
литературоведов. Ясное дело, никто и не смеет браться за такой непостижимый
материал. Здесь нужен хотя бы Мережковский, а лучше - Розанов.
Самый первый соблазн сравнить "Шатуны" с "Серебряным голубем"
или с "Мелким бесом". Но это будет неправда. "Шатуны" не оттуда.
Впервые о своей смертности узнаешь лет в пять. Это
внезапно - посреди деревенского двора, закрытого глухим забором, на
солнцепеке, в замерших от зноя мальвах, когда в мире остался только ты и
полудикий, пыльный весь дружок-котенок, а взрослые безнадежно спят в
прохладном глубоком доме; внезапно острая пронзающая боль, ни на что не
похожая: этот сильный жаркий свет и безмолвие и нигде никого нет - я умру
когда-нибудь, а все это: двор, огород, сарай с моими стеклышками и
секретиками - так и будет жить дальше. Мысль непостижимая, и, постояв в
ней оцепенело, бесчувственно, словно летя в заброшенный колодец, выныриваешь:
е с л и я б у д у в с е
в р е м
д в и г а т ь с я, играть, бегать,
баловаться, не умру никогда. Движением я преодолею смерть. Вон взрослые, они
медленные, они кряхтят, устают, им скучно и грустно, а я буду прыгать и
всегда-всегда играть, поэтому я не умру. Никогда. Человеческое созна-ние не
может вместить этого знания. Но каждый человек хоть раз в жизни подходил к
этой грани - и отступал, не перей-дя ее.
О том, что за гранью и что есть Бездна, - роман
"Шатуны". Писатель заставил себя остаться в том дрожащем миге, не отскочить в
теплый, веселый и смертный денек, он заставил ужас длиться и отверг утешение.
Даже христианство. Положенное всякому русскому. Но ведь мы успели основательно
побыть советскими, и это учтено писателем. Мы - кто-то еще, помимо тех,
кем были в прошлом: русскими, советскими, - мы некая загадка для мира, у
нас - мысли, идеи, томительные зовы души (не за ради пользы человечества,
а для охвата мира), у нас есть взор, и мы им желаем охватить мироздание. Все.
Беспредельное все. Потому что мы непостижимо единственные, других таких не
будет, и мы не можем исчезнуть, не познав всех тайн мироздания. Таково
самоощущение писателя.
"Прижав парн к дереву, Федор пошуровал у него в животе ножом,
как будто хотел найти и убить там еще что-то живое, но неизвестное". А убив,
заметался Федюша Соннов, заголосил над телом: "Ну где ты, Григорий, где ты?..
Куда спрятался, сукин кот?!.. С тобой ли говорю?! А может ты ухмыляесси?
Отвечай!?"
"...Кого убиваю, кого?.. Что видать, что не видать?!.. Может
я сказку убиваю, а суть ускользает??!"
Герои романа неописуемы. Литературных аналогов не сыскать.
Может быть, у Гойи, но невыносимо русские: "Ее лицо пылало; черты окостенели,
как перед смертью, но глаза струились небывалым помойным светом, точно она
испускала через взгляд всю свою жизнь, все свои визги и бдения".
"А в углу сидел он - Федор Соннов.
Это был грузный мужчина около сорока лет, со странным,
уходящим внутрь, тупо-сосредоточенным лицом. Выражение этого огромного, в
извилинах и морщинах лица было зверско-отчужденное, погруженное в себя и тоже
направленное на мир. Но направленное только в том смысле, что мира для
обладателя этого лица словно не существовало".
Герои существуют в мире, где сами они невыносимо реальны, а
все вокруг дрожит и движется, то ли есть, то ли нет. Федя людей убивает, чтоб
души ихние подстеречь. Душа вылетит - Федя с нею сольется... А
"мракорадостная" Клавушка, сестра Феди, так просто живет, "с больным
удивлением" глядя на мир, восхищаясь братом, и весь мир вокруг нее
подпрыгивает, вздрагивает, лики кажет... "Козу она уже принимала за
волшебницу, дерево - за идола, грибы - за мысли, а небо - за
клетку". "Глаза Клавы будто ушли в незнаемое. И в небо она смотрела, как в
дыру. И вдруг окинула всех нелепо-обнимающим взглядом:
- А ну-ка спляшем все... Лихия..."
Каждый персонаж несет в себе один-единственный вопрос: что за
гранью? Не после смерти, в тех мирах, где душа блуждает (множество есть версий
и утешений). А вот за гранью, за дозволенным, о чем думать нельзя, - там
что? Бездна.
Федя, одинокий убийца-искатель, встречает культурных.
Садистики, "метафизические", много ловко говорят. Федя слушает тяжело, со
вниманием, ходит за ними. Приходят в эту уютную компанию совсем новенькие,
юные (после советского атеизма), узнали, что душа бессмертна, и визжат от
непереносимости этой мысли. "Метафизические" любуютс Федей, его народной, без
развития, тягой туда, в Бездну. Но нет, Федор не принимает их объяснений,
потому что Бездна недвижна в своей неизмеримости, а любое объяснение -
только рябь по ней. Потому что Федя и есть эта Бездна, воплощенная в рожу его
незабываемую. Он - Гнев Господень. Его мы в нашей смирившейся жизни тоже
встречаем, и как же жалок наш суд над ним (вспомните Чикатило). "Шалуны-то
видно у нас опять нарождаются, в Рассеи". Они живут вокруг нас -
шагнувшие в недозволенное, "очарованные странники", вглядываются в нас,
теплых, солнцелюбивых и смертных. Они - стражи ночи и небытия. Они
невероятным образом вместили в себя знание о том, каким был мир, когда мира
еще не было. И когда Клавушка бредит, мы вольны так и видеть, что бредит, да
только ведь коза-то и впрямь похожа на волшебницу: коза беленькая,
хорошенькая, но у ней есть рожки и копытца... Они для того, чтоб мы
содрогались и забывали хоть на миг, что Земля плоская...
Может, все эти писатели не процесс в нашей литературе, но, на
мой взгляд, явлени первого порядка.
То, что останется после нашего смутного времени.
Михаил КУРАЕВ
ИСПЫТАНИЕ ПРАВДОЙ
Жуков, Георгий Константинович!.. Спаситель Москвы. Спаситель
Ленинграда. Спаситель Отечества! Стратег. Полководец. Победитель.
За неделю до конца войны, без перерыва три дня подряд, гнал
на Зееловские высоты полк за полком, дивизию за дивизией, армию за армией...
Бросал дивизии и полки в огонь, как солому. Через три дня наконец понял, что
Зееловские высоты "в лоб" не взять. Понял, положив за три дня двести? сто
тысяч? Сколько в час? Сколько в минуту?
А впереди еще штурм Берлина, и позади тоже много
побед.
Один только факт, а какой выразительный, как он рельефно
рисует образ победителя, стратега. Неужели подпрыгивающий над седлом поджарый
маршал на тонконогой лошадке полнее и выразительнее представляет образ
полководца "сталинского типа", как честно раньше писали в энциклопедии?
Блистательный критик Наталья Иванова, именно в нынешние
времена, времена невольных блужданий и хорошо рассчитанного блуда,
предпочитающая ясные содержательные формулировки, пишет: "...правда, будучи
этикой и поэтикой военной прозы, пробивала себе путь по крупицам через
цензурные запреты". Смысл основополагающего тезиса: правда - этика
военной прозы - вызывает полную солидарность, он ясен, несмотря на
несколько двусмысленный "путь по крупицам".
Согласимся с тем, что у правды могут быть разные уровни,
ступени, разные могут быть "крупицы" правды, но качественно они могут быть
только правдой и ничем больше. Отступление от правды в военной прозе неэтично,
отступление от правды в военной прозе (и скульптуре) ведет к невосполнимым
потерям.
Война в плоти своей невероятно образна. Образ жизни. Образ
выживания. И театр военных действий - это тот единственный театр, где
"взамен турусов и колес" не читки требуют с актера, а полной гибели всерьез.
Все события и подробности войны многозначны (и уже одним этим тяготеют к
образности), поскольку включены в коллизию "жизнь и смерть". Подвирать ли
кому-то в угоду или небрежничать, быть неряшливым в обращении с правдой, когда
речь идет о жизни и смерти, конечно, некрасиво...
Передо мной строго секретная ранее записка прокурора
Ленинграда на имя секретаря горкома о случаях людоедства в блокадном городе.
Записка от 21 февраля 1942 года. Это пик отчаяния, время предельного истязания
голодом, время голодного безумия... Две странички. Три столбика данных.
Небольшой сухой комментарий, коротенький вывод: "за указанный вид преступления
на 20 февраля осуждено..." столько-то. Документ рождает образ советского
человека, доведенного до предела отчаяния, образ человека неустоявшего,
переступившего черту. Более женщина, чем мужчина, на 98,51% беспартиен, на
4,5% служащий, на 0,7% крестьянин. В прошлом судим - 2%. С высшим
образованием - два человека! Только двое - это почти на тысячу!
Ленинградец лишь на 14,7%, в остальном уроженец иных мест, ну что ж, им в
чужом городе было еще безысходней, еще страшней...
А теперь представим себе сочинителя, автора, пишущего о
человеке, положим, вынужденном заниматься в ходе войны "этим преступлением",
этой статистикой. Предположим, что автор позволяет себе неточность,
небрежность, фантазии, озабоченный "чисто художественными" задачами.
Здесь-то закон Н. Ивановой "правда - этика военной
прозы" выступит во всей непреложности. Малейшее отступление от правды станет
не просто небрежностью, даже не ложью, а клеветой. А может ли быть клевета
искуплена "художественными достоинствами"?
Почему, собственно, обо всем этом говорю?
Да потому, что самое важное, самое интересное и самое
сложное, что предстоит пройти, на мой взгляд, отечественной литературе сегодн
и в ближайшие времена, - это испытание правдой. Как ни странно, но пробивать
путь "по крупицам" было проще. На "три минуты правды" нашей литературы
хватало, а вот сегодня, когда вроде бы можно и вовсе не врать,
оказывается, - это так трудно.
Самое интересное и самое главное в современном этапе жизни
нашей литературы, как мне кажется, это переход от правды "по крупице" (будем
благодарны критику за этот точный образ!) к системной правде, извиняюсь за
неуклюжесть определения. А тут еще горькое предупреждение Чехова: "Никто не
знает всей правды..."
Отечественную литературу призывают стать "цивилизованной", то
бишь рыночной, хорошо продающейся, так сказать, высокопродажной, что ли... Не
спешите! Европейский капитализм до Чейза и Берроуза породил Бальзака,
Диккенса, Золя, Томаса Манна... Дайте же и отечественной литературе
оглядеться, тем более что огромная часть прожитой нацией жизни была скрыта.
Наша ситуаци совершенно уникальна! Только сейчас стали появляться мемуары
партийных монстров, и только сейчас, когда они стали невольно пробалтываться о
себе, начинаешь понимать, что это племя ждет своего Данте!
А война? Полвека прошло, бумаги исписано без счета...
Но сначала об одном интервью.
Признанный авторитет в вопросах военной прозы, да и сам
мастер каких поискать, Григорий Яковлевич Бакланов на вопрос ведущего
телепрограммы "Без ретуши" о трех лучших произведениях о войне тут же назвал
"Генерала и его армию" Г. Владимова, чуть помедлив, вспомнил "В окопах
Сталинграда" В. Некрасова и завершил ряд романом В. Гроссмана,
который так долго шел к читателю и так бурно был встречен критикой. В этот ряд
по праву могли бы встать и книги самого Григория Яковлевича, и Василя Быкова,
и Александра Бека, и Казакевича, и Бондарева, и Рослякова, и Балтера... но в
этот ряд Бакланов не включил книгу Виктора Астафьева "Прокляты и убиты". Мне
кажется, что здесь сказалось природное художественное чутье Григория
Яковлевича, оно подсказало, я думаю, ему: это книга из другого ряда.
Прекрасен и достоин уважения ряд сочинений, где авторы
добывали правду по крупице, а подчас дарили читателей и такими самородками,
как "Будь здоров, школяр!" Б. Окуджавы или "Мертвым не больно" Василя
Быкова. Астафьев из другого ряда, и ряда тех авторов, что мучимы жаждой "всей
правды". Через предельную историческую, фактическую правду - к правде о
судьбе народа. И этот ряд открывается, быть может, главами из "Путешествия из
Петербурга в Москву", "Историей Пугачевского бунта", хрониками Герцена,
"Островом Сахалином", "Архипелагом ГУЛАГ"...
У кого из писавших о войне нет пронзительных штрихов,
потрясающих сцен в санбате, правдивых боевых эпизодов? В памяти до сих пор
стоит сталинградская искореженная земля с вмерзшими в нее трупами советских
солдат, по которым приходится с ужасом ступать герою Антонины Коптяевой Ивану
Ивановичу.
"Восемь автоматных пуль, вошедших в просторный живот
генерала, прошли навылет, не затронув жизненно важных точек..." Это
художественная правда, тяготеющая к сказке.
"Рана-то кака худая!" - отметил Лешка, увидев, как от
дыхания майора выбивается из-под нижнего ребра кровяная долька с пузырьком и,
лопнув, сочится под высокий строченый пояс офицерских штанов". Это тоже
художественная правда, тяготеющая к правде.
В интереснейшую точку, на интереснейшее перепутье вышла
сегодня наша литература!
Какой неожиданный, великолепный, захватывающий сюжет
разыграла она перед читателем! Да еще и как вовремя. В канун 50-летия
окончания войны два признанных мастера публикуют романы о войне, и даже как бы
об одном ее эпизоде.
Весна 1994. Георгий Владимов. "Генерал и его армия".
Осень 1994. Виктор Астафьев. "Прокляты и убиты.
Плацдарм".
Время действия - одно. Место действия - одно.
Написаны в одно время. Даже словечко "орелики" есть и у Владимова, и у
Астафьева: перекликается, аукается один текст с другим лишь для того, чтобы в
пристальном приближении обнаружить свою принципиальную несовместимость.
Невозможно представить себе в астафьевском романе шустрого,
проворного, на все руки ловкого солдатика, мечтающего "холить" (именно это
слово выбрал автор!) генеральское тело. В одном романе прут в ледяную воду
солдатики, подпертые пулеметами заградотряда в спину, прут без счета и без
надежды хотя бы живыми добраться до заветного берега, цепляются друг за друга,
а по ним, в кашу эту, бьют пулеметы и шлепают мины, и вспухает вода великой
реки не на один день красной пеной... В другом романе плывет через Днепр на
пароме генерал в кожаной куртке, а другой генерал, летчик, отгоняет от него
"фоккера", которому хотелось генерала подстрелить.
Оба романа хвалят и будут хвалить за правду о войне.
Один уже получил почетную премию "Триумф", другому уготован
Букер.
И справедливо - один роман заканчивает ряд сочинений о
войне, где правда, ну, скажем так, не монолитна, другой роман произнес мощное,
веское слово в ряду книг, стремящихся довериться жизни подлинной в надежде в
ней, горчайшей и безжалостной, найти образ, выражающий время. И художественная
правда, не нуждающаяся в хитроумных сопряжениях с правдой факта, а как бы из
факта вырастающая и на него же и опирающаяся, платит сторицей - создана
потрясающая, душу обжигающая книга, нет, не о войне, не о форсировании Днепра,
а об обманутом, изнасилованном и преданном народе.
В последнее время как бы подвергнуты окончательной ревизии
представления "устарелых демократов" об отношении литературы к
действительности (что только за действительность не выдается!) и о месте
литературы в "цивилизованном" обществе.
И вот грянула народная эпопея, где возлюбленный "демос"
предстал во всем трагизме своего бесправия. Вот и отцеди от художественной
ткани астафьевской прозы и социологию, и политику, и философию, коим вход в
литературу, занятую "своими проблемами", вроде бы заказан.
"Очень своевременная книга"!
Поразительно рифмуется обреченность пруклятых героев
Астафьева из книги о войне с обреченностью на вымирание сегодняшних
обворованных, обманутых, уже проклинаемых, но еще не добитых.
На мой взгляд, книга Астафьева - очень убедительное и
важное слово и о литературе; слово Астафьева стало делом, утверждающим
исторический оптимизм во взгляде на литературу. Жизнь невыдуманная, настоящая,
всамделишная, пристально увиденная и мастерски воспроизведенная - она
всегда новая, и здесь-то лежит источник вечного обновления литературы.
Новизна книги Астафьева обнаруживается уже в непригодности
определения ее жанра как "роман"... Это особый разговор.
...Астафьев не учительствует, не проповедует, он делает самую
трудную, самую тяжелую, рембрандтовскую работу художника: показывает нас
равными самим себе.
Как не хочется, чтобы э т о было правдой!
Сколько раз, переворачивая страницы журнала, заклинал:
пощади! Пощади! Ты же можешь... - а он своей искалеченной рукой тащит
тебя не в сказку, не в литературу, о литературе забываешь! Тянет тебя носом,
животом, коленями по родимой земле, пропитанной солдатской кровью, устланной
солдатскими телами, тащит по великой реке с генеральского берега на
солдатский...
И еще одно очень важное для меня лично дело сделал Виктор
Петрович Астафьев: он взял и на моих глазах известный мрачноватый афоризм
Евгения Замятина - будущее русской литературы это ее прошлое -
повернул светлой и оптимистической стороной, каковая мной и не
предполагалась.
Жгучий, обостряющий и ощущение окружающей жизни, и осознание
окружающей жизни, яркий и яростный роман создал Астафьев, шагнув далеко вперед
от вымышленной литературы, делом доказал, что будущее и прошлое русской
литературы едины, если это прошлое - реализм, демократизм и бесстрашие
перед лицом жизни!
г. Санкт-Петербург
Петр АЛЕШКОВСКИЙ
НА ТО И ПРОФЕССИЯ ТАКАЯ
Так или иначе литература конструирует жизнь. Строит модель,
пытается зацепить, высветить определенные типажи. Сюжет, как известно,
неизменен с древности. Важны обертоны. Даже в толкиеновской саге легко
расслышать сегодня тяжелую поступь второй мировой. Но есть писатель - и
есть Время - нечто несуществующее, неуловимое, но живое и
пульсирующее, - то нечто, с чем пишущий вечно играет в кошки-мышки. Играя
же, непроизвольно (а на деле весьма сознательно) лепит, творит.
Глупо историку воссоздавать жизнь пушкинской поры по одному
"Онегину", - глупо и проигрышно ему не ссылаться, не черпать из
"энциклопедии русской жизни". Писатель создает "вторую реальность", миф, но
лжет он от поиска правды, возвышает себя обманом - тем и рознится от
журналиста - словесного фоторепортера.
То, что вступили мы в новый поток истории, - ясно:
прекратили работу старые деньги - колесо завертели новые. А люди-то все
те же. Кто приспособился, кто старается впрыгнуть в последний вагон, кто,
страдая, доживает, но не сдается, свято блюдет заветы воспитания. Все причем
апеллируют к совести и даже невооруженным глазом видные грехи стараются
обелить, оправдать перед самими собой ссылкой на лихое "времечко".
Между тем основные духовные ценности всем известны -
мама говорила.
Истерика критики, - мол, нет литературы или, наоборот, все в
порядке: процесс идет, - весьма понятна: критике и положено волноваться и
волновать, отстаивать свои вкусы, а каждый теперь (да и всегда) свободен в
выборе.
Не близкие мне совершенно постмодернисты-андерграундцы (за
редкими исключениями, так критика затусовала) уже попали в историю
литературы, - раз напечатанное, осевшее на полках библиотек уже и есть
история. Почему надо было, почему выросли такие грибы - разберется время.
Там, на спокое, найдут и параллели с началом века, оценят отличия, углядят
безграмотную компиляцию, важно иное - состоялось, есть. Как есть и иное.
Есть и будет.
Слова р е а л и з м,
т р а д и ц и я так затасканы, так затерты,
а главное, так н и ч е г о не отражают, что и
говорить о них неохота. Ну какой, скажите, реалист Гоголь? А "Медный всадник",
"Пиковая дама"?
Есть привычный уже звук слов, строй, конструкция, темы -
есть, заданы и никуда пока от них не уйти - до тех пор, пока мораль у нас
христианская, отношение к жизни (всегда вопреки) гуманистическое, а
колышущееся над колыбелью море звуков - русская речь.
Сфальшививший против этих установок гибнет, заигрывается,
покупается, заболевает нарциссизмом или предпочитает служить "условному
денежному эквиваленту" - то есть выбирает жизнь скоротекущую, а не
вечное, чему призван служить.
Как бы ни были малы тиражи - книги выходят, как бы ни
был растерян издатель (лукаво ищущий новинку в графомании победившего
сословия), унижен читатель, нищ пишущий - жизнь продолжается. Отменена
цензура. Прекращена подкормка писателей - как идеологов строя.
Двадцатипятилетний Олег Павлов смог войти в литературу, а не был поставлен в
длинную очередь, как поступили б с ним десять еще лет назад. Живы и творят (и
как порой творят!) "старички". Толкается, просится на бумажный лист новый тип
человека - сегодняшний герой с кипой баксов в кармане, - вот-вот
прыгнет. Медленно меняется и звук прозы, болезненно, порой хамски давя,
напирают новые слова, запретные темы навязли в зубах, а значит, скоро зазвучит
(да и звучит уже) и любовь, и ненависть, и добро, и зло - не
чернушно-сгущенно, от испуга перед неведомым, а просто и честно, пускай слегка
и наивно, но уверенно, - те простые понятия жизни, что нужны вечно
мятущемуся человеческому духу, когда вечером, в тиши комнаты, при зажженном
ночнике возникает нужда в сладостном, волнительном чтении чего-то близкого,
ну, "как у тебя самого", но и не совсем так, того, что могло бы быть, того, о
чем мечталось, - жизненного и нежизненного одновременно. Это и есть
литературный текст, литературная сказка, дарующая наслажденье, - ни в коей
мере не просвещающая - кого? зачем? выдумали же! - но нужная как глоток
чистого воздуха, порождающая грезу, раздумье, волнующая, задевающая,
заставляющая сопереживать простой и понятной человеческой судьбе, эмоциям,
комплексам, чувствам.
И когда случится такое, - для нас, писателей нынешних,
прозвучит звоночек, - где-то рядом, очень и близко уже народится или
вот-вот проклюнет скорлупку звук новый, готовый смести предшественников
безжалостно, и если кто успеет расслышать его да подхватить - счастье
тому, но такое редко случается. И будут снова дебаты, баталии, схватки, ибо,
как писал Мандельштам: "В поэзии всегда идет война", и лишь неуловимое время
все расставит по полкам, всех помирит, занесет в свой циркуляр.
А ведь те, кто сметет предшественников, будут абсолютно
уверены, что они-то и черпают из "настоящего" источника традиции. И будут
абсолютно правы. Шарик наш невелик. Культура неистребима - она притом
вечная кочевница. Человек, гад такой, бесконечно прекрасен, и низок, и зол, и
бескорыстен, и... существуя в море родных слов, всегда нуждается в моменте:
вот раскрылась книга, задвигались персонажи, зашелестел ручеек слов... и
неизъяснимое нечто падает на душу и не отпускает, и живет, живет с тобой до
последнего дня.
Вот почему я очень доволен текущим моментом. Что же до личных
переживаний, страхов-комплексов-борьбы с подсознанкой, поисков и преодолений,
щенячьего восторга и мужской хладнокровной ответственности за свою
семью - они мои и чужими не станут. А если вдруг и проскочат помимо воли
на бумагу, то ведь зашифрую, перелицую так, что и сходства прямого не
останется, на то и профессия такая - не самая лучшая, но и не сама
худшая, это точно - врать не стану.
Олег ПАВЛОВ
ПОТРЕБНОСТЬ В ИСТИНЕ
Современная проза как текущая литература - понятие
ущербное. Тут мы хотим историчный, протяженный во времени художественный опыт
как раз выкорчевать из истории и сплавить как "текущий", пытаясь обогнать
течение самой реки. А тот процесс, если мы хотим именно движения, должен
начинаться от истоков, восходить из корней и тогда-то становиться ощутимым.
День же сегодняшний, настоящий, - это область не исторического, но
временного бытования литературы. Художественный опыт сталкивается со
временными порывами, веяньями как бы в противоход. Противоречие и
противостояние - это сказано верно, а вот "процесса", то есть
поступательного и последовательного движения ввиду извечной противоречивости
этого настоящего дня, не может и быть. То есть наш взгляд на современную
литературу в настоящем времени должен охватывать художественный опыт не на
протяжении его истории, а в противоречии и столкновении со временным, с
действительностью.
Мы ждали серьезных изменений в настоящем времени литературы,
потому что проглядели их в ее истории. Они должны были произойти на рубеже
60-х годов - и произошли. Художественный вымысел сменился художественным
исследованием личной, опытной темы. Через осознание художественного значения
личного опыта явились громадные писатели, а литература коренным образом
преобразилась. Потому и кажется Сергею Костырко, что в литературе "жизнь эта
есть", хоть и в последние годы никаких ожидаемых потрясений не происходило. Но
из этого же делается на новый лад старый вывод, что значит - вообще
ничего принципиального не произошло и что "литература не кончалась". Но
хочется спросить, с каких пор это нескончаемое движение началось? И что это за
традиция, которая продолжается, и что в этой традиции, интересно,
продолжается?
Я согласен, что с привычными схемами анализа к современной
литературе уже не подступиться. Согласен и с тем, что творчество современных
писателей не укладывается в прежние схемы, но вопрос в том, чтобы связать
новейший художественный опыт с предыдущим, из которого литература и исходит, а
не выдумать новейшие схемы. Революционность Бутова считаю сомнительной, как
раз схематичной. Мне кажется, что Бутов со всей своей мощью мечется от
рассказа к рассказу. Его творчество, как и вся новоявленная новомирская проза,
значимо тем, что исследование личного опыта переходит в исследование опыта
художественного, духовного, исторического - уже через осознание их
значимости. Родилась потребность не в правде, на чем росла литература начиная
с Солженицына, а в истине.
Притом отстаивается еще и ценность национальной традиции, и
классическая ее цельность, что становится опорой, творческим и в чем-то
нравственным убеждением. Но творчество хоть и самобытно, но далеко еще не
самостоятельно, и говорить о нем самом как о каком-то ценном, цельном
художественном опыте невозможно, тогда как Петрушевская или Астафьев в
современной литературе и в том же "Новом мире" - это уже воплощенные
опыты.
И тогда-то рождает недоуменье отповедь Андрея Немзера, с его
"дебютантами" и "мастерами", которые одни буксуют, другие исписываются. Что-то
было н а п и с а н о и теми и другими, став
плотью литературы, ее фактом, а требуются, оказывается, какие-то спортивные
результаты - "быстрее, выше, сильней"... А чего ради - чтобы убегать
от самого спортивного Немзера, который, оказывается, молодой и живей самой
литературы. И идеальный критик - это не тот, который "выбранит, что
погано пишешь", сидя с удобством на возу, а который постарается написанное
понять, что Солженицын называл еще "редчайшим даром" - "чувствовать
искусство так, как художник, но почему-то не быть художником".
Вот так, мне кажется, смог Андрей Немзер почувствовать очень
важную деталь, отмечая авангардность современного обращения к фольклору и
пародии. Новаторство - это попытка отрыва от традиции, которого
вследствие глубинных или духовных связей с ней как раз и не происходит, так
что получается то самое ее продолжение, развитие. И нельзя поэтому считать
авангардным искусство беспочвенное, как нельзя, с другой стороны, превращать
традиции в забрало литературы и объявлять "традиционалистом" всякого писателя,
чье творчество духовно связывается с почвой, с традициями. Это опять же старая
песня на новый лад. Это попытка опереться на то, что и без того было понятным,
даже распространенным, то есть строить новое понимание литературы буквально из
кирпичей.
"Древлеписьменные мотивы" в современной прозе, отмеченные
Немзером на примере Астафьева, кажутс мне также принципиальными: во время
общего переустройства культурной и языковой среды по чуждым типам и на чужой
лад, то есть во время действи современного прозападного просвещения и
столкновения с ним русской самобытности, таковой отход в архаику есть способ
сохранить самобытность, культурно и художественно замыкаясь в архаичной форме
и ее уже развивая как выражающую национальный тип - тип языка, если
говорить о тех же "древлеписьменных мотивах". Подлинная культура дышит не
метафорой смуты, а скорей сопротивлением смуте, которая исходит извне, -
это, повторюсь, современное прозападное переустройство отечественной
культурной среды, ее ценностей и понятий.
И потому нужно взглянуть иначе и на ту расхожую теперь идею,
что художественно актуальными в нашем времени становятся завлекательные, то
есть низкие, литературные жанры. Они актуальны с попыткой насадить у нас новый
тип литературы - беллетристики, лишенной притяжения русской классики. Но
для литературы классического типа, какой являлась и является наша национальная
литература, актуальней оживить традиционные жанры, - отсюда обращения
Алешковского к житию, Варламова - к духовному очерку и т. д.
Завлекательности традиционных и нетрадиционных жанров зримо противостоит то,
что я бы назвал историчностью. Писать исторично значит теперь - писать в
высоком роде. Повествовательность прозы становится уже не всегдашней маркой
добротного реализма, но новаторским художественным приемом, который как раз
изживает реализм. Становясь историчней, проза как бы удаляется от реальности
и, что важно понимать, от задачи художественного отображения реальности -
от задачи реализма. Таковое удаление возможно посчитать наигранным или,
точней, художественной культурной игрой, но никак нельзя забывать, в какой
напряженной обстановке оно происходит - что оно рождено, по сути,
сопротивлением. Так, и Володин, Астафьев, Алешковский не разыгрывают ХVIII
век - они уходят в него как с потопляемых земель на сушу, чтобы обрести
под ногами п о ч в у и писать той тяжестью
с л о в а, которая как Божий дар единственно нашей
литературе дана. И хоть литература может быть сколько угодно разнообразной,
пуска ответвления и покрываясь тысячью листочков, но ее тяжесть нельзя ни
утратить, ни каким-нибудь образом разъединить.
Королев, Шишкин, Нарбикова, Вик. Ерофеев, Пелевин,
Яркевич, Толстая, Клемонтович, Шаров, Сорокин и последующие - вот та
самая беллетристика, на наш лад усложненная и извращенная. Но был же и
Синявский, подспудно призвавший еще в 60-х годах к такого рода литературе и
сам же начавший осуществлять свой призыв в прозе, - его "Любимов" это
никакая не сатира, щедринская по духу, а семечко той иронической по своей
поэтике литературы, которая, пройдя кругами соцарта, андерграунда, вынырнула
под маркой постмодернизма, новой волны, а теперь обрастает жирком
завлекательности, то есть эротизмом, триллерством, фантастикой, модничеством и
прочим, множась уже сотней безымянных графоманов, поденщиков, которые до поры
вписывают эротические сцены в западные любовные романы, какой пример приводил
Сергей Костырко, а когда поднатореют да поумнеют, то начинают сами писать. А я
могу добавить, что теперь сочинять такую литературу вербуют сразу в стенах
Литературного института, его полуписателей-полустудентов. И я не думаю, что на
почве этих писаний возникают новые традиции или, скажем, кое-кем продолжается
Барков.
Барков в русской литературе был первым нарушителем - и
за то канонизирован ее историей и покрылся бронзой. Эстетизировать Баркова и
продолжать какую-то срамную традицию значит то же самое, что громоздить
пирамиду из тех самых трех букв, уж лучше все же сотворить Ивана Денисовича,
хоть тот будет фуйкать, а природно-натурально так и не пошлет. Если мне
припомнят Юза Алешковского, Венедикта Ерофеева, то я считаю, что они были
пророками русского мата, каким в поэзии был Барков, и очеловечили его, как это
дико ни звучит, а не наоборот. Те же песни Юза Алешковского растворились в
народе, стали безымянными. О народности "Москвы - Петушков" надо также
помнить. Безымянность, успокоение стихийного в стихии же народа - вот
итог, но ведь не литературный, за которым могло бы что-то следовать. Народ
дал, народ взял - жди другого такого времени, чтобы дал и взял. А вот
Лимонов, Милославский, Виктор Ерофеев - то, что они выскакивают по
очередности из смрада литературщины, то есть мелькают и философствуют, не
образует традиции, а выглядит как вездесущая природна грязь, которую они
рекламируют как полезную, лечебную для литературы.
И почему это у нас наступила "эпоха литературного разврата" и
что за карнавал будто бы начался, где самозванцы занимают в литературе какие
захотят места? Новая беллетристика не может ни подменить, ни даже слиться с
национальной литературой по той причине, что на сегодняшнее время национальная
литература не утратила ни своей цельности, ни своей среды и "место" как бы
свято ее присутствием, ее несломленным духом. Поэтому надо говорить о
"литературной борьбе". Сам же Басинский Павел участвует именно в борьбе, а не
в разврате. То, что он написал по поводу Королева и на что Агеев из "Знамени"
в "Литературке" ответил ему своими статьями, - это честная, наконец-то, и
по ясным художественным вопросам борьба.
Людмила УЛИЦКАЯ
ПЛОХОЙ ЧИТАТЕЛЬ
Если следовать формульному определению, я уже лет пятнадцать
могу считаться профессиональным писателем, поскольку именно писательское дело
меня кормило-поило эти годы. Но если говорить о самоощущении - оно
другое. Писательское занятие я рассматриваю как подарок судьбы, как очень
счастливую и очень тяжелую любовь, а небольшие деньги, которые я за это
получаю, и по сей день вызывают изумление: ну надо же, еще и деньги
заплатили!
Моя первая профессия - генетика. Я получила
естественно-научное образование, которое, впрочем, целиком и полностью
выветрилось, но, вероятно, осталась некоторая структура сознания человека,
который долго смотрел в микроскоп и восхищался неземной красотой и высшим
Разумом, который оттуда выглядывал.
Родители мои принадлежали к научно-технической интеллигенции,
а потому в доме, кроме научных, было полторы книги. Зато очень хорошие:
разрозненный Пушкин, разрозненный Шекспир и почему-то "Дон Кихот" в роскошном
издании. Возможно, со мной произошло то, что зоопсихологами называется
импринтингом: в определенный момент жизни цыпленок начинает двигаться за тем
хвостом, куриным, утиным или кошачьим, который он фиксирует в этот строго
определенный момент. Обычно это бывает хвост его матери.
Что касается меня, я до сегодняшнего дня не читала ничего
лучше "Капитанской дочки". С тем, вероятно, и умру. Впрочем, в юности я читала
очень много. В двадцать лет я совершила свое последнее грандиозное
открытие - Андрей Платонов. До этого были еще два - Пастернак и
Мандельштам, и были это мои личные открытия: сама сняла с полки у школьной
подруги, девочки из писательской семьи, убогие довоенные издания. "Сестра моя
жизнь" и "Камень" - в такой последовательности. С тех пор я гораздо
больше перечитываю, чем читаю заново. За литературным процессом последних лет
не слежу. В этом смысле я плохой читатель. Хотя событием Петрушевской
переболела, с самого ее появления. Вот писатель, поставивший талантливый и
глубокий социальный диагноз. Этот диагноз всегда казался мне очень жестоким.
Но убедительным.
И все-таки светлое солнце "Капитанской дочки" всегда до меня
доставало, и на словах матушки-императрицы "Я в долгу перед дочерью капитана
Миронова" по сей день каплю слезами.
Бурный процесс расчеловечивания, постигший мир, в котором мы
живет, - я имею в виду не исключительно советский, постсоветский, но и
западный тоже, - родил также и литературу расчеловечивания. Но одно дело
фиксировать эти состояния, их угадывать, художественно формулировать, а
другое - служить этому процессу, сочувствовать растлению, любоваться
распадом, наслаждаться насилием в художественном творчестве. Эта литературная
"расчлененка" дл меня неприемлема. Когда она талантлива, она мне кажется столь
же опасной, как фашизм или терроризм.
Система биологической защиты вида, саморегуляция, не работает
в человеческом обществе. В некотором смысле ее заменяет культура, в самом
широком смысле этого слова, - от системы табу в древних человеческих
сообществах до религиозных, нравственных и юридических запретов, которые
существуют в современных сообществах. Когда писатель объявляет трезво и
холодно, что его задача в "разрушении табу" (своими ушами слышала), мы должны
отдавать себе отчет в том, что перед нами человек, работающий на разрушение
мира. Возможно, он хочет его "до основания разрушить, а затем...", но как раз
про это ничего не говорится. Эта тенденция в новой русской литературе сильна,
и она кажется и читающей публике, и в особенности критике очень
привлекательной. Недавно я прочла в "Литературке" две критические статьи
ведущих критиков, Вайля и Курицына, и эти умнейшие люди хором провозглашают
Владимира Сорокина хранителем традиционных ценностей и надеждой не то что
русской литературы, но вообще русского будущего.
Кроме честного и нескрываемого сатанинского злонамерения, я
вижу здесь литературный конструктор, где очень остроумно из известных кубиков
складывается сооружение, конструкция-концепция, но складывается, в отличие от
многих других, с точным знанием ремесла, то есть с сюжетной тягой. Имею в виду
роман "Сердца четырех", единственный из прочитанных мной романов Сорокина.
Вообще в этом литературном пространстве усматриваю некоторое соревнование по
части того, кто дальше зайдет в смелых комбинациях орального и анального
секса, труположества и каннибализма.
Недавно провела десять дней в Лондоне и много времени
проходила по его несравненным музеям. Мысль, которая уже давно крутилась у
меня в голове, кое-как сформулировалась: очень условно и необязательно деление
искусства на большие стили - ренессанс, классицизм, барокко, романтизм,
реализм... В каждом горизонтальном разрезе существуют все компоненты. С равным
правом можно выстроить и другие схемы, например, по функциональному ряду или
по жанру. Тогда мы будем рассматривать другие ряды: культовое искусство,
интерьерное искусство, прикладное искусство, либо по жанрам: историческое
полотно, портрет, натюрморт, роспись по керамике, например...
Сегодня мы оказались в пространстве, условно называемом
постмодернизмом. Его основная стилева особенность - разрушение жанра,
попытка, более или менее удачная, соединить разнородные, разноприродные
элементы, переварить всю предшествующую культуру целиком и одновременно. Это
сооружение приобретает знакомые очертания: "...голова была из чистого золота,
грудь его и руки его - из серебра, чрево его и бедра его - медные,
голени его железные, ноги его частью железные, частию глиняные". Что дальше
было, известно - "все вместе раздробилось: железо, глина, медь, серебро и
золото сделались как прах на летних гумнах...".
Прошу прощения за цветистую цитату, она на совести пророка
Даниила. Говоря простыми словами, мне кажется, что в наше время создается
много праха. Впрочем, его всегда создавалось много, но прах сегодняшний мне
кажется особенно претенциозным, поскольку он объявляет себ единственно
значимым.
Я честно пыталась рассмотреть в нем новизну, то качество, на
котором всегда стоял авангард. Тот авангард, которым с древних времен живет
искусство: новым сюжетом, новым движением, новым материалом, новой мыслью.
Желтая блуза есть, но гения в ней не трепещется. Хотя нескольких талантливых
поэтов обнаружила: Рубинштейна, Айзенберга. О Седаковой и Шварц умолчу, они
принадлежат к другому культурному течению.
В современной постмодернистской прозе, читая немного
нецеленаправленно, могла и пропустить главную звезду.
Теперь, высказав столь резкие суждения, чтобы отвести
возможные подозрения о непомерном авторском самомнении, я вынуждена сказать о
себе: мои собственные писательские амбиции невелики. Мой поздний писательский
старт и возраст таковы, что я не участвую в литературном соревновании,
рассматриваю себ как писателя локального, не замахиваюсь на крупные социальные
проблемы. Хватит с меня моих стариков, бедных и больных, маргиналов, как
теперь говорят. Для отечественной литературы эта тема традиционная. Ни
самооценка, ни тем более соотнесение себя с другими авторами меня не занимает.
Тщеславие, отведенное мне, я истратила в молодые годы, и совершенно по иным
поводам, и потому я легко иду на риск числиться старомодной и сентиментальной
представительницей "женской прозы".
Егор РАДОВ
ПИСАТЕЛЬ - ПИШИ!
Являясь современным прозаиком, я тем не менее обнаружил, что
с трудом представляю себе, что такое сейчас современная проза.
Партия (президент?!) и правительство бросили нас, бедных
писателей, на произвол судьбы, предоставив нас так называемому рынку и (о,
ужас!) читателям... Напрямую!
Недавно прочитал книжку - секретные документы сталинской
эпохи о литературе. Господи! Счастливые люди были тогдашние писатели! По одной
строчке какого-то стиха Сельвинского принималось два или три постановления.
Да, убивали, сажали, травили, но... Занимались! Читали! Кормили! Давали дачи и
квартиры. То журили, то хвалили, то ругали, короче - занимались, читали,
считали серьезным явлением в жизни страны. И - что-что, а ведь не давали
умереть с голоду!
В сорок третьем году Пастернак, считающийся у нас бедным и
затравленным, плачетс в жилетку Щербакову: "...плохо, плохо...". Помогите,
мол. Сейчас лето, а у меня жена, огород, дача, переезды... Афиши выступлений
воврем не расклеили. Книжку куда-то отодвинули, что-то напечатали не в той
редакции. В сорок третьем году! (Курская дуга.) И ведь помог - гад,
сволочь, сталинский выкормыш Щербаков. Не то что сейчас. Брэннер п... под Ван
Гогом - так даже не арестовали за хулиганство. Полный неуспех. Что еще
сделать бедному сегодняшнему писателю, чтобы как-то обратить на себя внимание
и вернуть то отношение к нему, которым всегда гордилась Россия? П... под
Ельциным? Даже участковый не заинтересуется!
Мне-то грех жаловаться. Я выпустил три книжки, и меня читают!
Как говорили раньше: "Есть свой читатель". Я его вижу, ощущаю, наблюдаю. Пусть
литгазетовские критики по традиции рассуждают о каком-нибудь очередном номере
"Нового мира" или "Знамени". Мне это смешно: ведь их-то почти никто и не
читает, кроме самих этих критиков. А меня читают. Читатели. Единственное, чего
это не приносит, - денег. Выпустил роман - пойди продай его. Но зато
я твердо знаю, что, уж если мою книжку купили, ее будут читать. Потому что ни
одного человека нельзя заставить купить твою книжку, если он этого не захочет.
Так получилось, что я с самого начала своей, как говорится, профессиональной
литературной деятельности существую в условиях рынка, и он меня не застал
врасплох, как очень и очень многих. И я считаю, что это честно. Если уж тебя
не читают, то пеняй на самого себя. Или на тупоумие современников. Но уже не
прикроешься ни Сталиным, ни Щербаковым, ни Ельциным. Поэтому нынешняя
литературная ситуация мне представляется максимально, в чистом виде,
литературной. Ты написал - тебя читают. Либо не читают. А критики...
"Почему критик должен вставать между мной и читателем?" - как вопрошал
Маркес.
Из современной прозы я знаю Сорокина. Игоря Яркевича. Друзей
типа Олега Дарка, Нарбиковой, Игор Левшина. Мою соинститутицу Нину Садур. Все
они печатаются и читаются теми, кто хочет их читать.
Журналы сейчас фактически мертвы - критики никак не
могут втемяшить себе это в башку. Понятно, что им жалко денег пойти в магазин
некоммерческих книг - "Гилею", "19 октября" - либо в какой-нибудь
другой и купить современную литературу. Им легче в читальном зале пролистать
очередной номер, например "Юности" (она еще существует! Чудо!) и написать
обзор "современной прозы", состоящий из имен, которых на самом деле никто не
знает и не читает. Мне ничего не стоит напечататься в той же "Юности". Но я не
хочу. Уже не хочу. А ведь при Брежневе почитал бы за счастье. А сейчас не
хочу. Хотя бы даже и потому, что там платят тридцать тысяч рублей за печатный
лист. (В журнале "Птюч", например, десять долларов за страницу.) И
вообще - не хочу.
Что касается собственно современной прозы, то она, как мне
кажется, пребывает в некотором шоке по поводу происходящей вокруг
действительности, меняющейся с такой быстротой, что ее может уловить и
зафиксировать разве что журналистский репортаж, но никак не длинный,
обстоятельный роман. Однажды я попробовал: написал роман "Якутия", в
котором - в качестве исходной предпосылки - распадался СССР. Пока я
его писал, СССР в самом деле распался, произошла пара путчей и вообще масса
всего. Слава Богу, суть романа ни в коей мере не ограничивалась политикой, а
то бы я всерьез приуныл.
Но ведь так и надо: сегодняшняя жизнь наглядно убеждает, что
писатель, особенно прозаик, романист, - не летописец эпохи и даже не
"человековед", а создатель искусства, то есть своего нового, художественного
мира. Если этот мир создан, получился, если он не похож ни на что другое,
кроме него самого, если он отличается от реальности, не воплощает ее в
романной, рассказной или любой другой форме, - это произведение
существует, останется, не сгинет в потемках истории, как советская власть,
монархия или путчи, но все равно дождется своего часа и будет прочитано и
усвоено теми немногими сумасшедшими, которые всегда были, есть и будут, -
теми, кто воспринимает искусство. А оно, увы, "совершенно бесполезно", как
справедливо писал Оскар Уайльд, и если и принесет автору какие-то материальные
блага, то лишь в силу счастливого стечени обстоятельств, а не в качестве
заслуженного вознаграждения.
"Надо писать и уповать", - как мне сказал однажды
гениальный современный поэт Иван Жданов.
Это поняли те тысячи "писателей", которые составляли Союз
писателей, когда он приносил материальный доход и давал всевозможные блага и
льготы. Поняли - и отсеялись, как ненужный сор, от литературы, занявшись
кто бизнесом, а кто попытками состряпать разнообразную "попсу", как правило,
неудачными, поскольку истинный бестселлер просчитать почти невозможно, и очень
часто читаемыми и популярными становились именно некоммерческие книги, а те,
что писались только ради денег, никаких денег и славы зачастую не
приносили.
Раньше все мы - мое поколение - пытались
перещеголять друг друга в разработке запретных тем и использовании запретных
слов, но оказалось, что их далеко не так уж и много, и теперь я наблюдаю
некоторую растерянность своих коллег, которые буквально не знают, чем же еще
ошеломить якобы пуританского нашего читателя. Даже Игорь Яркевич, к которому я
отношусь очень хорошо и кого считаю весьма талантливым писателем, несколько
"обломался": как же, мол, так, я и обо..., я и онанировал, и Солженицына с
Окуджавой мешал с дерьмом, а меня просто-напросто читают - кому нравится,
кому нет, но не получилось того возмущения, "бомбы", на которую рассчитывал...
Я тоже какое-то время пребывал в таком "обломе", пока не понял, что
эпатаж - тоже, в общем, внелитературная задача и он нужен лишь дл лучшего
усвоения каких-то более серьезных вещей, а уж если их нет, то никакой эпатаж
не поможет. Конечно, кому бы не хотелось, чтоб его книгу судили в суде, как
"Тропик рака" или "Голый завтрак"... Но по заказу такие вещи не
делаются.
Вообще сейчас пишут мало. Ну что такое пять или шесть
по-настоящему интересных прозаиков - "создателей своих миров" на огромную
Россию!.. Мой первый издатель С. Кудрявцев, публику мой роман "Змеесос",
постоянно мне говорил, что сейчас ситуаци книгоиздания сходна с временами
гражданской войны и революции. Но ведь какие тогда были люди!.. У А.
Мариенгофа в "Романе без вранья" написано, что они с Есениным сидят в холодной
комнате, третий день ничего не евши, и... занимаются разбрасываньем вырезанных
из газет слов на клейкую бумагу, чтобы случайно возник какой-нибудь гениальный
образ. Вот это были действительно Служители Прекрасного безотносительно, кто
из них талантливый, а кто просто - "историко-литературное
явление".
Нынешние авторы, да и я, признаться, тоже, все чего-то ждут.
Точнее, не чего-то, а вполне конкретного: денег, славы, известности,
заграничных переводов. Вот, мол, я прогремлю на весь мир, и тогда... Но я
понял, что прежде всего ты должен быть тружеником, "писатель -
пиши!" - перефразируя Сальвадора Дали. А материальные награды - увы,
вопрос чисто твоей человеческой удачливости, обстоятельств, кармы, если
хотите.
И я благодарен этому времени, сегодняшней литературной
ситуации - за честность, бескомпромиссность, жесткость. Я не знаю другого
времени, когда бы я смог напечатать буквально все, что мне бы хотелось. В это
время я напечатал все, что хотел.
"Процесс" все равно идет, и эта растерянность постепенно
схлынет, и появятся новые имена - те сумасшедшие Создатели, чье
предназначение - творить, неважно для кого - хоть для неба, для
лунных камней, для самого себя.
Так получилось, что я почти не называл имен и конкретных
произведений. Но это характерно: прозаики всегда были разобщены. Прозаик
всегда одинок, он самим фактом своих произведений перечеркивает все, что было
до него и что существует одновременно с ним. Иначе ничего не выйдет. Но это и
не наше дело. Наше дело - писать, творить новые миры, не отличая
"пораженья от победы". Все остальное - дело издателей, литературоведов,
критиков. Тех самых критиков, которые зачастую в упор нас не видят.
Критики, объедините нас! Мы будем только благодарны!
Мы - не плохие и не такие тупые, как вы порою думаете, мы просто ждем
одного: беспристрастного понимания нас, а не вашего собственного
самовыражения. Мы все равно будем делать то, что умеем и как умеем. А вот вы
без нас - ничто. И я вас уверяю, что если я сейчас, не имея буквально
денег на кусок хлеба, написал заумный, психоделический роман "Борьба с
Членсом" (пользуясь случаем, сообщаю, что он будет напечатан в издательстве
"Птюч"), значит, это нечто большее, чем просто эпатаж, стеб и т. д. и т.
п.
Литература творится на наших глазах, и предугадать, что она
еще "отмочит", не дано никому, даже Виктору Ерофееву, который на полном
серьезе называл свои творения "русской прозой конца двадцатого века".
Я счастлив тем, что живу в это время и у мен есть "мой
читатель". И я все равно буду заниматься тем, чем занимаюсь, независимо от
признания или непризнания. А вы - "Вопросы литературы" - хот бы
попытайтесь понять, почему я этим занимаюсь столь упорно, практически не имея
никакой выгоды, и почему я занимаюсь этим именно так. Я тогда стану просто
немножко счастливее. А вы - в самом минимальном варианте - хот бы
расширите свой кругозор.
Владимир ШАРОВ
ЧТО УЖЕ ВИДНО
Тема этого разговора: что собой представляет современная
литература - мне, безусловно, интересна, хотя думаю, что сказать
что-нибудь определенное можно будет очень и очень скоро.
Все-таки что-то уже видно. Ясно, что та группа писателей
(сложится она в итоге в поколение или не сложится - сказать трудно),
которая появилась на свет Божий в последние пять-десять лет, и те, которые
идут вслед за ними, своего читателя не создали и не создадут. У нас тоже есть
читатели, но это читатели шестидесятников, которые на каком-то этапе пошли
вслед за нами, читатели унаследованные или украденные, уведенные. Вина это не
наша. Просто вера, стопятидесятилетняя вера в то, что литература - ум,
честь и совесть нашей эпохи, - иссякла. И писатели, и неписатели, с
которыми я разговариваю, которых я знаю и люблю, - все равно ранены
безумной сложностью жизни, почти полной невозможностью разделить в ней добро и
зло, страхом перед сколько-нибудь определенными словами и действиями: никто не
знает, во что это может вылиться.
Такое ощущение, что весь мир населен этими кентаврами добра и
зла, а просто добро, как в резервации, сохранилось в кругу твоих близких
друзей и твоей семьи. Мы действительно не пророки. Не знаем, ни кого, ни куда
вести. Возможно, когда-нибудь мир снова упростится и литература вернется к
своему прежнему состоянию, а возможно, и не вернется.
Согласно комментариям к Ветхому Завету, все евреи из первых
поколений после Синая могли поговорить с Богом, то есть были пророками, а
потом это быстро стало сходить на нет. Потеря нашим поколением пророческого
дара мне, но думаю, что и многим другим, не кажется трагической: чересчур
многие из наших предшественников оказались лжепророками, хотя и свято верили в
свое откровение.
Вторая вещь, о которой надо сказать, - это цензура.
Шестидесятники (я уже не говорю о тех, кто им предшествовал) рождались
автоцензурой, без нее вообще невозможно было писать. Вторжение в твой текст, в
ту паутину слов, смыслов, ассоциаций, которая связалась, ужасно. Если бы все
это было передано в руки Главлита - не думаю, чтобы хоть один талантливый
литератор мог бы работать. Автоцензура делала девяносто и больше процентов
работы официального цензора, причем ты даже не сам себя резал, а просто не
писал того, что и так будет вырезано.
Мне уже приходилось говорить, что потери от этого были не
столь велики, как, на взгляд со стороны, должны были быть. Благодарные
читатели, которых у каждого хорошего писателя были миллионы, достраивали,
дописывали каждую фразу, с полунамека понимали то, что им говорили. Это была
очень открытая литература, очень теплая, дружеская и добрая. Разговор всегда
велся среди своих, и я рад, что в юности был частью этого
сотоварищества.
Мне кажется, что те, кто сейчас приходит в литературу, лишены
или почти лишены этой спасительной автоцензуры, - и во многом это плохо.
Вещи, которые публикуются, стали куда более завершенные, жесткие и закрытые.
Может быть, это тоже самозащита: читател нет, нет того, который пропустил бы
твою книгу через свою собственную жизнь и так достроил бы ее до целого, -
и приходится все делать самому. Наверное, эта литература была честная, более
смелая, почти лишенная иллюзий и самообольщений, но и очень немногим нужная.
Тот же кентавр добра и зла: приобретения неизбежно сопряжены с потерями, и
выиграл ты или проиграл - сказать невозможно: сегодн кажется одно,
завтра - совсем другое.
Теперь о нашей генеалогии. Я думаю, что генетически всего
ближе мы к литературе 20-х - начала 30-х годов: тогда начиналось то,
свидетелями конца чего нам суждено быть. Они родились до, жили до, а потом
видели всю эту ломку, видели страну, где, кажется, ни одному обыкновенному
человеку не удалось прожить жизнь так, как он рассчитывал. Это, наверное, и
называется революцией. В них был взгляд со стороны, извне, и то, как они
увидели революцию, тоже было очень ярко, очень свежо. Ни для кого ничего еще
не успело сделаться рутиной, приесться; сама власть еще не была
рутиной.
Мы не только кончаем, завершаем то, что они начали, не только
дописываем их книгу: им самим говорим, как, чем она завершится, - мы и
очень похожи на то поколение своим ощущением жизни. Как и они, мы жили в очень
упорядоченной (хот и другой) стране, а потом тоже была революция, и тоже все
попытки прожить жизнь, как ты ее задумал, безнадежны. И тоже все очень живо,
ярко, контрастно, а темных очков еще не придумали.
Журнал, прос у меня несколько страниц заметок по поводу
нынешнего состояния "письменного дела" в нашей стране, хотел и чтобы я назвал
или сказал о тех писателях, которые мне близки, которых мне нравится читать
(из живых). Мои вкусы вполне традиционны. О шестидесятниках я говорить не
буду: мне нравятся, и очень нравятся, те же, что, в сущности, и всем. Может
быть, сейчас из-под пера выходят не лучшие их вещи, но свое они, безусловно,
написали. Из современников по дате рождения (пускай часто и относительных)? Я
рад, что пишут И. Оганов и А. Ким, В. Пьецух и Б. Вахтин, Ф. Горенштейн и Е.
Попов, А. Слаповский и М. Шишкин, А. Верников и А. Королев, П. Алешковский и
З. Гареев, и я очень рад, что они не похожи друг на друга. Утвердившийся
сейчас почти как норма поиск в литературе общего, так, что один писатель похож
на другого, мне кажется глубоко ложным. Все мы хороши единственно непохожестью
друг на друга, общее же - так, обычный балласт.
Алексей СЛАПОВСКИЙ
ПЯТЫЙ УГОЛ
Если постмодернизм все-таки существует и если я все-таки, как
считают некоторые критики, постмодернист, то мне переключиться на критику
ничего не стоит. Ибо девиз постмодернизма (если бы он, этот девиз, был):
"Н а м в н я т н о в с е!"
И вот я уже поступил постмодерново, так как девиз этот, с
одной стороны, взят у Блока, но с другой стороны (корявость фразы пусть не
смущает - постмодернисту многое позволено, чего нормальным людям
нельзя), - так вот, с другой стороны, тайно отсылает к названию статьи
Андрея Василевского в "Новом мире": "В о т
С л а п о в с к и й,
к о т о р ы й
с п о с о б е н н а в с е!"
Само это название тоже постмодерническое и насквозь реминисцировано.
В о т, с одной стороны, напоминает о смешной кличке маленького
литератора, хоть и дяди Пушкина, Василия Львовича, а с другой стороны, -
будучи развернуто в фразу, - явно отсылает к строке того же Пушкина
"В о т и С в и н ь и н,
р о с с и й с к и й
ж у к" (да и стихотворение озаглавлено - "Собрание
насекомых"!). К о т о р ы й - усмешливый
кивок в сторону несерьезного д о м а,
к о т о р ы й
п о с т р о и л Д ж е к.
Ведь можно было бы проще:
С л а п о в с к и й,
с п о с о б н ы й н а
в с е. Можно - да нельзя. Хотя и в данном варианте определения
с п о с о б н ы й н а
в с е предостаточно - особенно для рубрики из жизни, а не
литературы: "Их разыскивает милиция", например. Процитировав и
прокомментировав названье статьи, я не столько отмстил Андрею Василевскому
(припостмодернячив восклицательный знак, которого у автора нет), на которого
обиды не держу, сколько попытался доказать сам себе, что постмодернизм
существует и проник везде - иначе я не взялся бы не за свое дело.
Ибо если его нету, то, во-первых, я, значит, не
постмодернист, поскольку невозможно принадлежать к несуществующему течению, а
во-вторых, должен нижеследующий текст либо не писать, либо писать писательски,
не перевоплощаясь в критика, но писать писательски о писателях - дело
каверзное и трудное, гораздо легче перевоплотиться в критика.
И тут (пропало вступление!) я вспомнил о пути третьем: не
писательском и не критическом, а - читательском. Тем более, что читатель
я и по душе, и по образованию (филолог), и по недавней службе - работал в
отделе прозы журнала "Волга".
Однако и это обман.
Все проще: мне хочется кое-что сказать о современной
прозе - не как читателю, не как писателю, не как воплотившемуся в критика
постмодернисту, а всем, так сказать, своим неделимым существом.
Предыдущие же навороты, между прочим, это - уже разговор
о современной прозе - в форме одной из форм, извините, этой самой
современной прозы. Как бы эпилептический припадок куклы-марионетки, которую
расчетливо дергает за ниточки умняга-кукловод.
Я предполагаю, что людям, читавшим мои вещи, интересней
конкретные суждения: кого люблю, кого не люблю, что понравилось, что - не
очень. Без фокусов. Я сужу по себе: когда я читаю, например, интервью с кем-то
из писателей, то меня увлекает речь о литературе на уровне чуть ли не бытовом.
Дескать, недавно книгу А. С. прочел. Неплохая книга! Или, дескать, книгу В. С.
прочел. Чуть не стошнило, знаете ли... И я сравниваю, соглашаюсь или внутренне
спорю, - в общем, как это у книголюбов на кухне принято - было.
Потом прошло, а теперь, кажется, опять начинается.
Я начну с близкого. Им, пожалуй, и закончу. О дальнем для
меня скажут другие, - меня не заботит. О странностях литературного
процесса позаботятся третьи. Высказать парадоксальное мнение по поводу того, о
чем все высказываются, сумеют четвертые. Меня же больше интересует -
пятый угол. Которого вроде бы нет, по крайней мере о нем не толкуют с
оживлением и задором, там икону никто не спешит вешать, но никто и паутины не
различит. Тот самый пятый угол, который любезен вообще литераторам, мною
уважаемым, и поэтому для меня он более реален, чем доступные всеобщему
обозрению четыре угла.
Валерий Володин.
Мы с ним товарищи по работе, мы печатаемся в том же журнале,
которому служим, мы соперники. Может быть, я Сальери, с легкой и
веселой - и зыбкой - известностью Моцарта (в узких, конечно, кругах,
как и всякий нынешний литератор), а он Моцарт с "глухою славою" Сальери. Да и
повадками мы с прототипами наоборотно схожи. Интересный получился бы сюжет о
двух творцах: сумрачный, неспешный, немногословный Моцарт и контактный,
разбрасывающийся Сальери. Занятно, правда? Но убийства не будет. Мы оба -
хорошие, добрые люди.
Он труден для чтения.
Обычно я говорю всем так: "Марсель Пруст тоже труден. А
Володину - в подметки не годится".
Загнул я или нет, не мне судить, но трудного Володина я читаю
с гораздо большим удовольствием, чем трудного Пруста, умеющего останавливать
врем и завораживать этим внимание. А у Володина герой в романе "Паша
Залепухин, друг ангелов. Поэма стихий" просыпается от похмельного сна страниц
сто, но как просыпается! Какие стихии начинают бушевать в больном и бескрайнем
Пашином уме! И какими словами написано! А дальше что начинается!..
Роман выдвинут был на Букера-94, но это, как многие уже
понимают, счет еще не гамбургский.
С ревнивым удивлением я ждал: что же после этого можно
написать?
И дождался: в "Волге" 95-го года публикуется роман Володина
"Время, жить! Баллада о существовании". Как и предыдущее название, я и это
закавычиваю вместе с подзаголовком: неотрывная часть!
Роман века - понятие пародийное (Евг. Сазонов, "Бурный
поток" - помните?), но каждый мечтает оный написать. И я, поскольку
утопист, допускаю, что таких романов будет написано даже несколько. Один из
них - этот. Ей-Богу, поверьте на слово, а не верите - прочтите. Суть
проста до крайности: лирический герой усомнился в факте своего существования.
И пытается хотя бы рассказом о себе этот факт не то чтобы все-таки обнаружить
и утвердить, а - на крайний случай - воссоздать. Довольно долго,
прихотливо, с юмором такого рода, который позволил академику филологии В. В.
Прозорову упомянуть, говоря о Володине, "тень Гоголя", - герой выясняет
сам с собой, да родился ли он вообще, - то есть, конечно, родился, но
родился, мнится ему, не тем, кем родиться был должен, - должен был
явиться в свет человек с другим именем и с неисчислимыми достоинствами, с этим
человеком герой ведет диалог, кается и извиняется, что родился вместо него и
занял чужое место. И - движется далее по строгому, между прочим, пути
романа-биографии, романа воспитания, - жанр соблюден (хотя роман
авангардней любого откровенно авангардного текста с мешаниной фактов, мыслей,
событий, переменой на переправах абзацев жанровых коньков с анекдота на эссе,
с эссе на детектив, с детектива на психологическую ученическую зарисовку, с
нее - на соцарт и т. п. ... Такое ощущение, что сам о некоторых своих
вещах рассказываешь! Да...). Герой-повествователь вспоминает о детстве,
юности, о женитьбе - с целью доказать себе, что детство, юность и
женитьба у него - были! Он очень старается, в результате же ошарашивает
себя заключением: не было у него ни детства, ни юности, ни даже и женитьбы,
потому что, насколько известно ему, детство, юность и женитьба совсем не такие
бывают, какие у него были. То есть - не были, не было.
Это убогий пересказ начала, я не исследовать пытаюсь роман, я
пытаюсь лишь заинтересовать им тех, кто прочтет эти строки. Ладно, пусть не
роман века, но - роман конца века, это уж наверняка, конца русского ХХ
века. Я бы сам такой хотел написать - совершенно другой, разумеется. Но
мой - напишется, нет ли, а Володин свое дело сделал. Ему теперь роман
начала века остается написать. Потому что он - уже там. Проща прошлое, он
простился с ним. Он не зачеркнул его - ибо глупо понимать прямолинейно
отказ героя признать свое существование. Он напомнил: недавнее наше прошлое
таково, что и впрямь не верится, было ли оно на самом деле? Очень уж
невероятно! Толкам о потерянном поколении (потому что уж хочется как-то
назвать поколение, а новенького слова никто не придумал!) Валерий Володин
противопоставляет (хот слово это очень ему не идет) представителя поколения
выжившего. И тут, может, речь не столько о герое, сколько об авторе.
Филологически уточним: образ автора имеется в виду. "Время, жить!" - не
со стаканом вина в руке, а с веселым очищающим ветром в голове понукает герой
уставшее до смерти российское время, в азарте своем веруя, что оно будет еще
жить. Поскольку - некуда деваться. На первый взгляд этот призыв так же
наивен, как на заре солнцу приказывать встать (или даже вспомним: "Наш
паровоз, вперед лети!" - и, конечно же, само собой разумеющееся "Время,
вперед!"). Но именно "жить", а не "вперед", ведь как солнце разное бывает, так
разное бывает и время. И мертвое - тоже. Кто испытал - знает.
Алан Черчесов. Опять-таки автор "Волги", из Северной Осетии,
человек русского языка и европейской культуры, сейчас, кстати, работает за
рубежом. В "Волге" опубликованы были его повести, роман "Реквием по живущему",
которого, кажется, никто не заметил, кроме Андрея Немзера, посетовавшего, что
он не попал в букеровский список 95-го года - вместо любого из трех
четвертей списочного состава.
Роман тоже труден для чтения. Не труднее, однако, - кого
бы? Да хоть и Маканина. Раньше это обозвали бы "повествование на национальном
материале". Или - "местном". Интересно, почему "Уллиса" никому не придет
в голову назвать романом на местном материале? Я не сравниваю, тут
просто - досада говорит.
Алан Черчесов, рассказывая о судьбе гордого, одинокого,
неуступчивого и ничего не забывающего человека и касаясь тем самым самых
сокровенных струн души своего народа, сумел, в отличие от многих своих
предшественников, решить труднейшую задачу - не дать заслонить, подчинить
экзотическому колориту все остальное. Это не русскоязычная проза о людях гор,
это русская проза о людях, живущих в горах по законам нынешним и библейским
(или - кораническим); роман становится притчей - без игры в притчу,
сам по себе, слову же Черчесова доступно многое, язык в этой прозе -
персонаж равноправный.
Олег Хафизов.
Тоже "Волга". Две повести: "Магнусов" и "Дом боли". На уровне
мстительной, поспешной, разрешенной социальной сатиры "Дом боли" -
произведение удивительно неангажированное, черный юмор его - не чернуха,
образы не расхожи. Впрочем, при всей черноте этого юмора, он странным
образом - теплый, особенный. Оттого и удовольствие при чтении Хафизова
было особенным - не просто радость редактора, получившего -
самотеком! - рукопись из Тулы, а радость легкая, читательская,
благодарная...
Критика - молчок. Не потому, что "Волги" не знают. Когда
Евг. Попов, Вяч. Пьецух, Саша Соколов и другие публиковали у нас свои большие
вещи (в пору, когда еще СССР был и компартия - та -
была) - шум и треск раздавались изрядные. И сейчас пописывают о наших
авторах - о которых другие пишут. (Повторяю, исключение - Андрей
Немзер.)
Я мог бы и о других, не только авторах "Волги",
написать - о тех, кто оказался в "пятом углу" (в моем, правда,
понимании - почетном), однако заметки мои могут стать слишком длинными. К
тому же, хоть я и говорил о конкретных вещах, но важен и принцип. Вот я назвал
имена и произведения, которые считаю значительными по тому самому гамбургскому
счету, столь любимому гордой и независимой критикой. Я сделал это с вполне
определенной целью - я хочу, чтобы меня опровергли, чтобы мне доказали,
что во мне играют местнические амбиции, я, извините за высокопарность, бросаю
вызов критикам. Тем, кто еще не ленив и любопытен. Тем, кто тоже "способен на
все", а не только букеровских кандидатов обсуждать. Трудное ли дело? -
кандидат нынче гужом попер, уловистый, повадливый и по доброте
номинаторов - беззащитный, путина приятная, расставь руки да лови -
само идет!
Хотя гораздо вкуснее было бы все ж порассуждать о современном
литературном процессе, вспомнить, например, картинки из быта редакции, когда я
приходил к главному редактору, держа рукопись известнейшего автора, со
словами:
- Чушь полная, читать невозможно, задрав штаны бежит за
комсомолом уважаемый наш автор, и более ничего.
- Значит, печатать не надо, по-вашему?
- Обязательно надо! Как-никак - литературный
процесс!
Главный поднимал понимающе брови и разъяснений не
требовал.
Литературный процесс - это свято. Это наше вс¸! -
что от литературы всегда остается, даже тогда, когда и самой литературы нет
(см. ист. сов. лит.).
Но говорить о литературном процессе - значит говорить в
первую очередь о себе. Вы не ослышались, то есть не обчитались. Выражусь
прямее: литературный процесс - это я.
Обнаглел же я так с подачи Вяч. Курицына, назвавшего меня,
нелюбимого, тем не менее - "ключевой фигурой" в этом самом процессе, по
крайней мере - средь "новых" имен. То есть, если хотите знать, до чего
докатилась современная проза, берите ключик в виде Слаповского и этим ключиком
ларчик данной проблемы открывайте - и все станет ясно.
Как вы понимаете, финал такой - неспроста, это типично
постмодернистский прием: соорудить текст любого формата и жанра ради
вкрапления другого текста, в котором, как в матрешке, еще текст -
подтекстов не считая. О себе написал автор эту статью, поймет проницательный.
И не будет совсем уж не прав, как нарочито неловко, с аристократическою
небрежностию выражались еще в прошлом веке, когда никаким постмодернизмом и не
пахло.
Литературный процесс гораздо эже и мельче, чем его изображают
многие критики (парадоксальным образом именно о мелкости и узости его
говоря!), но он гораздо шире и глубже, чем им того хотелось бы. Открыть на это
глаза - лишняя работа!
И еще одно, последнее сказанье. Просматривая по долгу службы
все литературные журналы последних лет, выписываемые редакцией, всегда искал
что-то, что захотелось бы отложить на край канцелярского стола: дома почитаю.
Именно - по-домашнему, сидючи вечерком в удобном кресле, а то и лежучи,
поскольку лично для меня сила эстетического наслаждения и катарсиса прямо
связана с горизонтальностью положения; как замечательно бывает уронить руку с
журналом и закружиться вне текста мыслями, образами, навеянными автором,
начать сочинять свою историю...
Немного было таких авторов и произведений.
Все нормально. Так и должно быть.
Три-четыре книги остается от каждого десятилетия. Главные
книги.
Из современных же писателей, которых я не только читал дл
души, а не по должности, но и перечитывал, только один есть. Володин.
Приготовивших усмешку очень вежливо прошу ее убрать: себя не
перечитываю. Свидетели есть.
г. Саратов