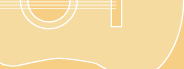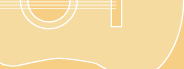|
ОЧЕНЬ ГРУСТНО СТАНОВИТСЯ ОТ НЕКОТОРЫХ ВЕЩЕЙ
Часть
I.
Беседа с Александром Левиным получилась непредсказуемо
необычной. Потому что это была беседа «на троих» – кроме меня и
Александра, в ней принял участие и Николай Якимов. Он и произнес
первые слова:
НЯ: Мне вот интересно, смотрите – собрались
Анатолий Гуницкий, представитель, в принципе, рок-журналистики;
Александр Левин – поэт и представитель жанра «авторская
песня»…
АЛ: Авторская песня не в узком жанровом смысле, где три
аккорда и определенная задушевность в исполнении, а авторская песня
в смысле как бы не скованная ничем, кроме текста, который
исполняется.
НЯ: А я, как бы болтаясь между течениями, назвал
свой жанр современная камерная песня.
АГ: Я с утра сегодня изучал
сайт Александра и могу сказать, что он также занимается
журналистикой, и что им написано достаточно много интересных
материалов, связанных и с музыкой, и с поэзией, и много еще с чем,
так что журналистика в лице Александра тоже присутствует.
АЛ: В
моем лице много чего присутствует: и журналистика, и компьютерные
учебники в моем лице присутствуют, так что оно все здесь сидит, на
этом диване замечательном (беседа наша проистекала в галерее
«Борей»), оно сидит все и…
АГ: Тогда есть смысл задать первый
вопрос – так кто же вы, мистер Левин?
АЛ: Whо is mister Levin? –
«Она утонула…». Здесь я по поводу своих песен и стихов. Я приехал по
Колиному приглашению попеть песен и почитать стихов. А вообще-то я
зарабатываю, конечно, не этим, на это я трачу деньги, те, которые
заработал компьютерными учебниками.
АГ: Много тратите?
АЛ: Ну,
приходится тратить – и звукорежиссеру платить, и за выпуск, иногда и
музыкантов приглашаю – барабанщика, басиста и так далее. Кому-то
что-то приходится платить. Но я не скажу, что это непомерные траты,
просто есть приглашенные музыканты и нужно им платить. То есть, чем
отличается хобби от дела твоей жизни? Дело твоей жизни тебя кормит…
Нет, неправильно. Основное твое занятие, профессия тебя кормит, а
дело твоей жизни – это то, на что ты тратишь. Вот так нужно сказать.
На стихи я не трачу, на сочинение песен – тоже не трачу, а вот на их
уже оформление…
НЯ: А на концерты?
АГ: И часто ли они бывают,
эти концерты?
АЛ: Редко бывают. Как вот у Вити Луферова закрылся
его «Перекресток» – там была такая достаточно регулярная площадка,
раз или два раза в год я там выступал, а теперь сразу все и
куда-то…
НЯ: Два раза в год – это максимально?
АЛ:
Максимально, чаще не было.
АГ: Чаще не хотелось или просто не
было необходимости?
АЛ: Как зовут. Звонят и говорят:
–
Выступишь?
– Выступлю, конечно.
НЯ: То есть, два раза в год
звонили?
АЛ: Ну, два или раз. Или раз или два. Был еще Центр
авторского творчества, авторской песни, теперь его куда-то тоже
перевели, с одного места на другое, там я выступал. Какие-то разовые
выступления, связанные с поэтической тусовкой, бывают.
НЯ: А в
поэтической тусовке тоже с гитарой?
АЛ: По-разному. Если сборный
вечер, и все поют и читают, то, чтобы не быть среди них клоуном, я
тоже читаю. А когда мой сольный вечер, то я и читаю, и пою. Потому
что примерно половина стихов ведь не становится песнями, они
по-другому сделаны, у них структура не песенная, поэтому читаешь и
поешь.
НЯ: То есть, в студии, на самом деле, проводится больше
времени, связанного с песнями, чем в живом исполнении?
АЛ: Вот я
заканчиваю писать книжку свою, летом я ее сдаю, осенью она должна
выйти. После этого я до следующего января за компьютерную книжку не
принимаюсь. У меня свободное время, я сижу над альбомом, аранжировки
делаю, а если уже доходит дело до живых записей, то работаю со
звукорежиссером, и вот вся эта работа – она проходит во вторую
половину года.
АГ: Аранжировки Вы сами делаете?
АЛ: Да. Первый
альбом – я делал аранжировку сам, второй – полностью сам, а третий
альбом, «UNTERGRUND» – это как бы следы существования моей
рок-группы, которая сначала называлась «Левин и дети» – там играли
два моих сына, один на клавишах, другой – на соло и ритм-гитаре, и
еще там потом появилась жена сына, на гитаре на акустической играла.
И вот это то, что мы придумывали вместе.
АГ: То есть, эта группа
реально существовала?
АЛ: Она реально существовала, мы немножко
выступали, но опять же – некоммерческая музыка, и главное, у нас так
сложилось, что у нас не было барабанщика. А это как бы не совсем, не
везде и не всегда. А потом, некоторое время еще существовала другая
группа, когда Андрюша ушел по своим делам…
НЯ: Андрюша – это
сын?
АЛ: Это старший сын, клавишник. И тогда была группа, которая
называлась «Биомеханика». Это тоже пару лет мы поработали, в итоге
вот то, что мы тогда сделали, вот эти аранжировки, они – в основном,
не все, некоторые я дописывал сам – они попали на этот диск, причем
музыканты некоторые переигрывали то, что было тогда вчерне написано.
Поэтому аранжировки делались совместно. А четвертый диск я опять
делаю один и аранжировки опять все делаю сам.
АГ: Некоторые из
песен, которые Вы исполняли на концерте, есть в альбоме
«UNTERGRUND». Вам приходилось вместе с группой играть их на
концерте?
АЛ: Приходилось.
АГ: Но, видимо, нечасто.
АЛ:
Нечасто. Потому что эти московские клубы, куда мы попадали, там люди
должны двигаться, потанцевать, покушать, а с моими текстами, которые
требуют внимания – это, согласитесь, не очень подходило для
обстановки, если бы еще хотя бы сидел забойный барабанщик… но его не
было, не сложилось, нет у меня организаторских способностей. И не
было у меня надежды, что я смогу этим ребятам нормально платить,
потому что это на энтузиазме существовать долго не может, а
получалось именно так.
АГ: В начале беседы Николай Николаевич
Якимов меня обозвал – в общем-то, справедливо – представителем
рок-журналистики. Деваться некуда, в самом деле, есть такой грех,
довольно старый, но если уж разговор пошел про музыку с приставкой
«рок», то было бы любопытно узнать ваши впечатления о том, что
происходит с этой самой музыкой, которая «рок», сегодня? В стране?
Или в мире?
АЛ: Здесь я боюсь выступать в качестве оценщика,
поскольку в какой-то момент я от этих вещей стал абстрагироваться,
отходить. То есть…
НЯ: От определения?
АЛ: Нет, я стал меньше
слушать музыки, я заметил. В какой-то момент мне что-то стало
скучно. Потом я вдруг заметил, что мне страшно не хватает красивых,
простых мелодий. В какой-то момент я подсел на Сезарию Эвору. А
предыдущий мой любимый человек, у которого были очень интересные
мелодии – Том Уэйтс. Но он продолжает, слава богу. Его альбомы
какого-то рубежа были для меня не интересны, а потом вдруг опять
пошли какие-то вещи, которые я снова могу воспринимать. А что
касается наших людей… последним сильным для меня потрясением был
альбом «Жилец Вершин». Это потрясающая вещь, конечно, ничего
сравнимого для меня после этого не было. Я бывал на концертах
«Аукцыона» и Лени Федорова, но такого синтеза такой музыки, такого
текста и такой подачи – не было, я считаю, это лучший отечественный
диск десятилетия, наверное. На мой взгляд, это самое лучшее, что
было. Очень здорово. Ну и вообще «Аукцыон» я люблю. Ну а говорить о
современном состоянии я просто некомпетентен.
АГ: В вашем сайте
есть материалы, связанные с музыкой, с некоторыми альбомами…
АЛ:
Рок для меня – это близкая вещь, потому что кумирами моими были и
«Beatles», и «Pink Floyd», и «Genesis», в общем, все, что тогда
положено было.
НЯ: А в поэзии?
АЛ: А в поэзии первым ударом по
мне был Алик Мирзаян с Бродским. Это то, что мне было наиболее
интересно тогда.
НЯ: То есть, связанное с музыкой.
АЛ: Да. Я
пока не стал сам писать, я стихов не читал. Я пытался, но меня эта
музыкальность уводила, читаешь как бы от рифмы к рифме, в ритмику
втягиваешься, а о чем прочел – я понять не мог. Алик Мирзаян попался
со своими вещами, про которые не было нигде сказано, что это
Бродский, потому что его фамилию тогда нигде нельзя было упоминать.
Я – думаю: какой универсальный гений! Какие стихи, какая музыка!
Какой голос! Потом выяснилось, что гений был один, а Алик тоже был
замечательный и потрясающий, но стихи не его. И вот был такой
первый, наверное, толчок.
НЯ: Это семьдесят восьмой, семьдесят
девятый год?
АЛ: Я начал писать в семьдесят седьмом стихи,
значит, до этого уже был год или два Алик мне известен, причем
попалась – как всегда, в те годы – кассета, на которой все
называлось Никитин, а там были и Мирзаян, и Бог знает кто, а я-то
сначала думал, что это Никитин. Потом страшно разозлился, когда мне
сказали, что это не Никитин, а какой-то Мирзаян… Я уже слов
наговорил в своем кругу, что это вот такой гений, а это оказался
Мирзаян. Да еще и потом – Бродский. Ну, в общем, это все такие
смешные детали… На самом деле, для меня сильным ударом был,
настоящим – это Заболоцкий. А потом добавился Олейников…
НЯ: То
есть, там стихи уже в чистом виде были, без музыкальной
поддержки?
АЛ: Да. Первое восприятие было Заболоцкого – какой
почти фашистский такой, большевисткий, какой-то жесткий,
человеконенавистнический поэт! Первое было… А потом я прочел его
второй раз, и увидел, какой это очаровательное, классное кривое
зеркало! Зеркало языка, зеркало образности…
АГ: Ну, судя по тому,
что я читал и слушал во время концерта, эта линия, которая от
Заболоцкого пошла, дала Вам мощный толчок и она до сих пор
реализуется в том, что вы делаете.
АЛ: Да, это направление.
Знаете, как… Вот девятнадцатый век тяготел к классичности изложения
в стихе, к поиску универсального, классического, истинного стиля.
Истинной такой красоты в поэзии. А двадцатый век вдруг стал
придумывать стиль.
АГ: Всему свое время.
АЛ: Да. Маяковский и
так далее – это пошла яркая стилистическая вещь. Причем каждый стиль
охватывал какой-то спектр эмоций, который предыдущие стили не
охватывали. Вот этот вот кипящий гнев и так далее – этого раньше, до
Маяковского было нельзя. И вот эта вот странная ирония, странный
стеб такой, который у обереутов – он тоже в старых стилистиках тоже
никак не выражался, разве что у Козьмы Пруткова, но то он
специфический такой был. И эта эмоциональная область мне была просто
близка, поэтому я, видимо, в этой стилистике стал работать, но я
совершенно не старался этому следовать, у меня много других вещей,
по-другому сделанных, и все эти игры с языком… Мне всё время ставят
лыко в строку Хлебникова, но у нас совершенно разный подход к языку.
Хлебников копал вглубь, в славянскую, чего-то оттуда вытаскивал,
пытался эти древние корни прижить, и в силу этого его тексты были
непонятны. Были и остаются. Они претендовали на создание языка. У
меня задача другая: я тяну в стихи воду современной речи. Живой,
игровой, то, что свойственно многим людям с юмором и чуством языка,
это хорошо ложится в иронические, в пародийные стилистики, хорошо
работает. Но иногда можно таким способом делать совершенно
серьезные, философские тексты. У меня есть один, построенный на
перемене начала слова с концом, на отделении, тем не менее, текст
важный именно в идеологическом для меня смысле.
НЯ: Но это не
игра ради игры?
АЛ: Вот это основное отличие от людей, которые
пытаются потом в таком же духе… начитаются, – начинают говорить,
мол, «это все легко, мы так тоже можем». У них получается игра ради
игры. А это… я считаю, что эти языковые неологизмы, языковые игры, я
их… вот то, что мы с Володей Строчковым делаем, – мы их использовали
как серьезные поэтические приемы, не менее применимые широко, чем
метафора.
НЯ: То есть, направленные на выражение особого рода
эмоций?
АЛ: Это особого рода художественный эффект, с помощью
которого делать можно разные вещи. Это не комический эффект. Есть же
и примеры, когда и лирические стихи, таким образом, написанные,
когда глагол используешь в качестве существительного, и он начинает
работать. Ну и много и других эффектов побочных. Вот чем, например,
мне интересно вот это странное смещение? Вот я беру, например, пишу
пародийный текст, я пародирую некоторую стилистику, скажем, в
авторской песне, романтику кораблей, пиратов, «уходим навсегда»,
«огни святого Эльма»… я эту стилистику пародирую тем, что беру
нормальный поэтический размер, накат лирический и там, где в строке
ставятся на сильном месте главные слова, ставишь как бы так не то
слово, не из того вообще стилевого ряда. То есть, как бы обламываешь
кайф каждый раз. В каждой строке. Получается вроде бы пародия. Потом
берешь, на это пишешь музычку, а музычка превращает это дело, черт
побери, из пародии опять в серьезную вещь. Она начинает двоиться,
она начинает работать через отрицание. Вот песня на диске «Кудаблин
Тудаблин», я был в полной уверенности, что я пародию написал. Но
когда я стал эту песню исполнять, я понял, что музыка гораздо в этом
смысле пересиливает по энергетике, получается, что люди смеются и в
тоже время лирика вся сохраняется. Вот это очень любопытный,
странный эффект, и это что-то получается сродни обэриутам, у
которых, скажем, «Таракан» – пародийное, смешное, нелепое
стихотворение. А на самом деле – очень грустное.
НЯ: Это
обнаруживается потом?
АЛ: Для меня это обнаружилось совершенно не
сразу.
НЯ: Музыка вскрывает?
АЛ: Это вскрывает музыка, я был
как бы… в своей работе я был серьезен, я делал эти вещи, я из разных
областей вставлял эти слова… Вставишь какую-нибудь комическую штуку
и смотришь на крепость этой вот стилистики, этой лирической баллады.
Выдержит она? И вот она выдерживает, и с помощью музыки она
выдерживает все.
НЯ: То есть, это доказательство правильности
приема.
АЛ: Да я не знаю, доказательство это или не
доказательство того, что человек может черпать лирику из разных
вещей, и что комизм некоторый, и пародийность могут фокусировать
этот эффект.
НЯ: То есть, музыка как бы дала этому тексту другую
жизнь…
АЛ: Да, другую. И причем были всякие разговоры с людьми,
которые читали сначала текст, и как бы их поражает, что из этого
получается с музыкой. Не ругаются, а удивляются тому, что все теперь
получилось как бы совсем по-другому.
НЯ: А когда пишется музыка
на стихи Строчкова? Это другой случай?
АЛ: Другой. Там немножко
больше у меня свободы.
НЯ: А посыл?
АЛ: Когда родственная
какая-то вещь… У Володи – длинные стихи, а у меня критерий – в песне
должен быть сюжет внутренний, четко прослеженный ход, который идет
от начала к концу. Фабула может быть любая. Некий сквозной ход. Чего
совершенно нет у Бродского, когда он накручивает, накручивает без
конца одно и тоже, и можно в любом месте это прервать. У Володи тоже
есть такие тексты, и вот иногда я прочел глазами – ничего, а потом
слышу, как Володя читает – оп! Вот он прочел, и я услышал, и тогда
вот понимаю, что, наверное, я сделаю музыку. Но это бывает не очень
часто. Где-то десяток песен всего.
АГ: Вот я прочел в Вашем сайте
по поводу сочетания свободного стиха и музыки. Вы
считаете, что
это сочетание невозможно?
АЛ: Как система – да. Но отдельные
выстрелы гениальности возможны, просто я не видел. Я знаю, как это
делают композиторы-классики, они же тексты не слышат, для них это
материал.
АГ: Кого вы имеете в виду?
АЛ: Множество людей.
Которые пишут современные оперы. Просто в любом месте режется
строка, где это композитору нужно, сколько угодно раз повторяется и
ломается строфика, композитор делает из прозаических кусков, из
верлибра свой размер. Как будто бы поэт эти строчки просто так
поставил. Меня этот вариант не устраивает. А делать адекватно из
верлибра ритмику музыкальную, это означает найти какой-то такой ход…
я считаю, что, все-таки, песня и стихи, это должно быть нечто такое,
что можно запомнить, а как верлибр не запоминается, так и это не
запоминается, но в виде какого-то гениального прорыва это
возможно.
АГ: Есть же еще и ритм, не только в рифмах дело.
АЛ:
Ритм – это мощный фактор запоминания, видимо, ничего с этим не
поделаешь. Так что я не знаю таких примеров, видимо, они есть, но
мне они неизвестны.
(продолжение см. www.asia-plus.ru/cgi-bin/events.cgi?id=269) |